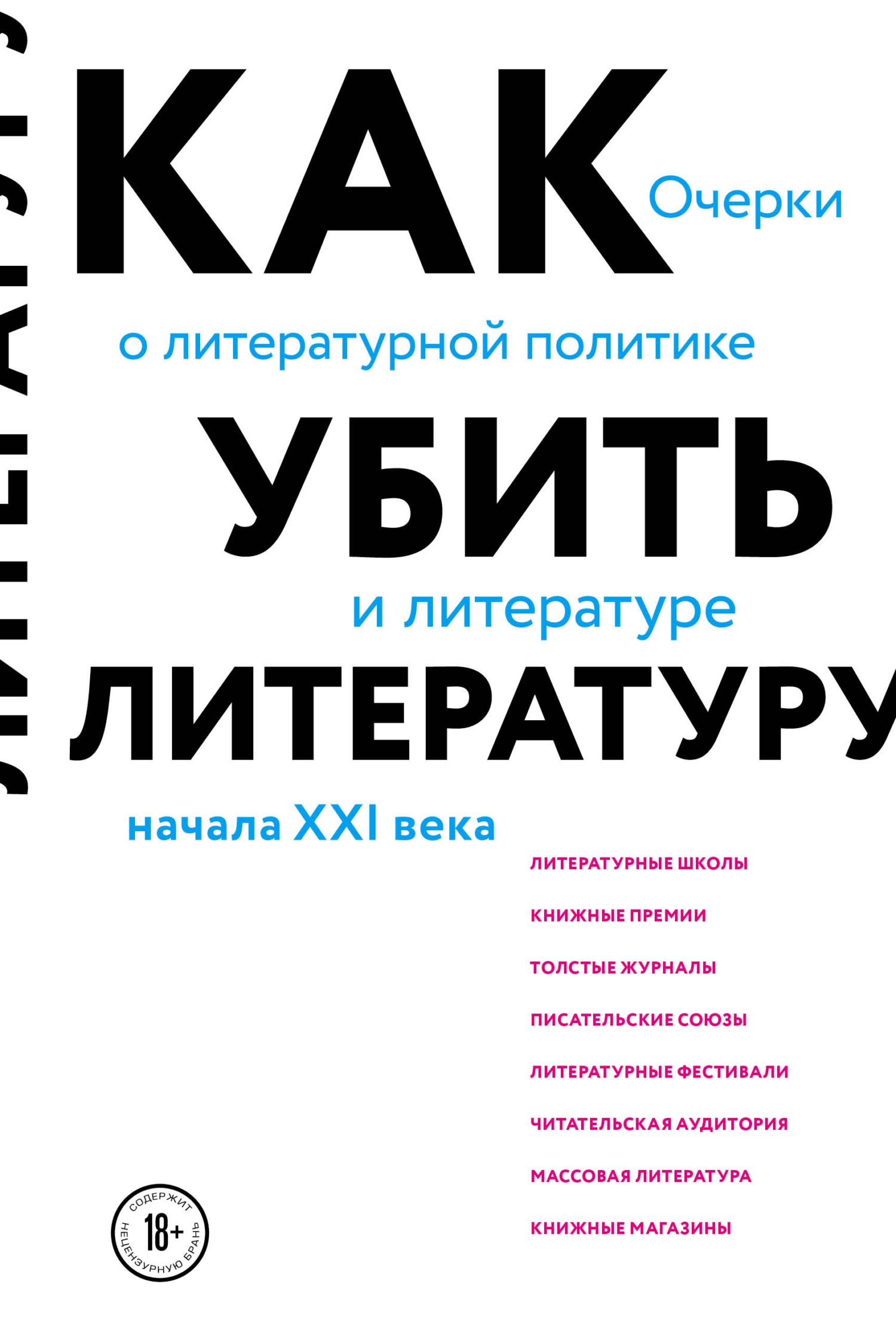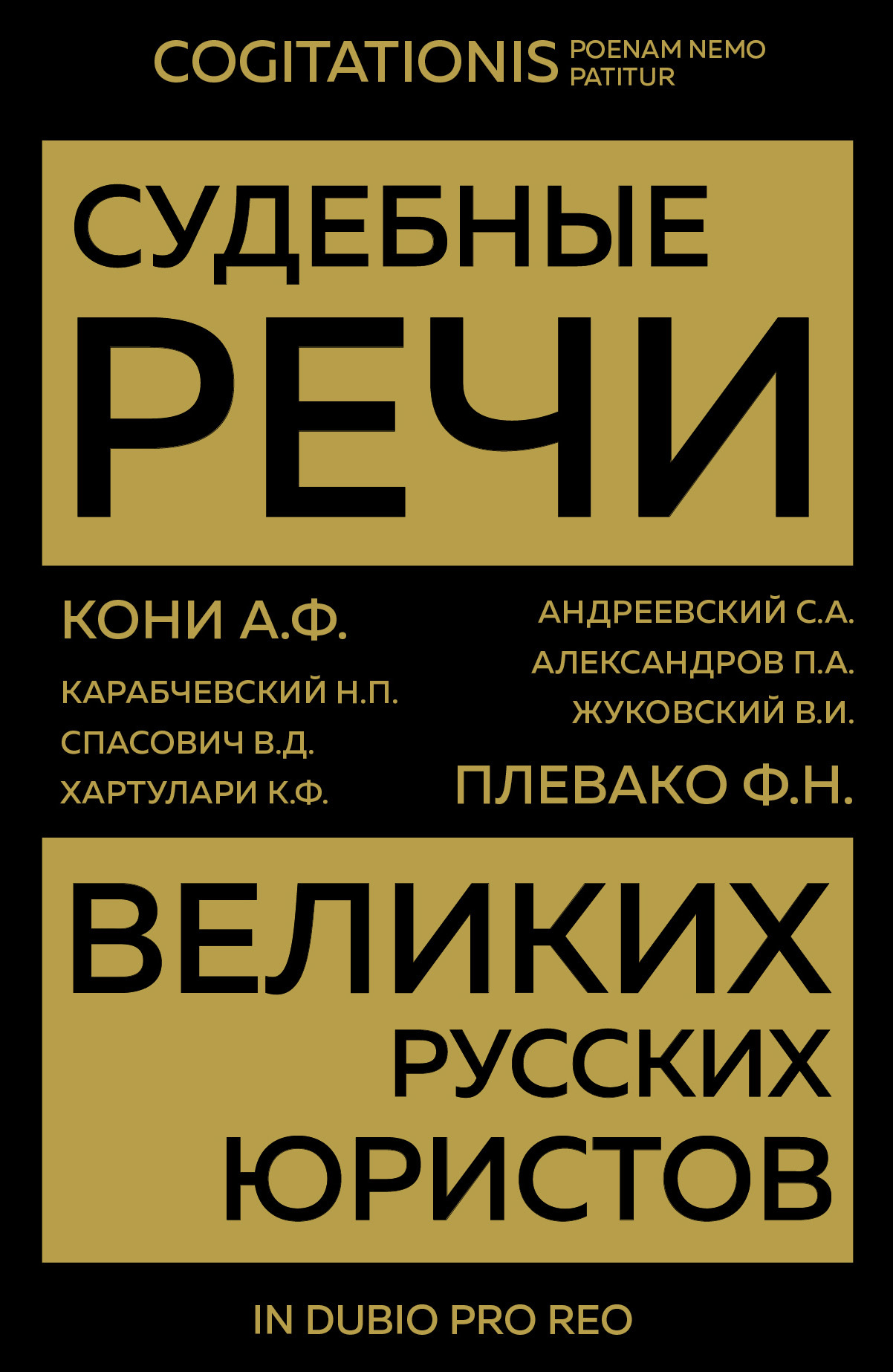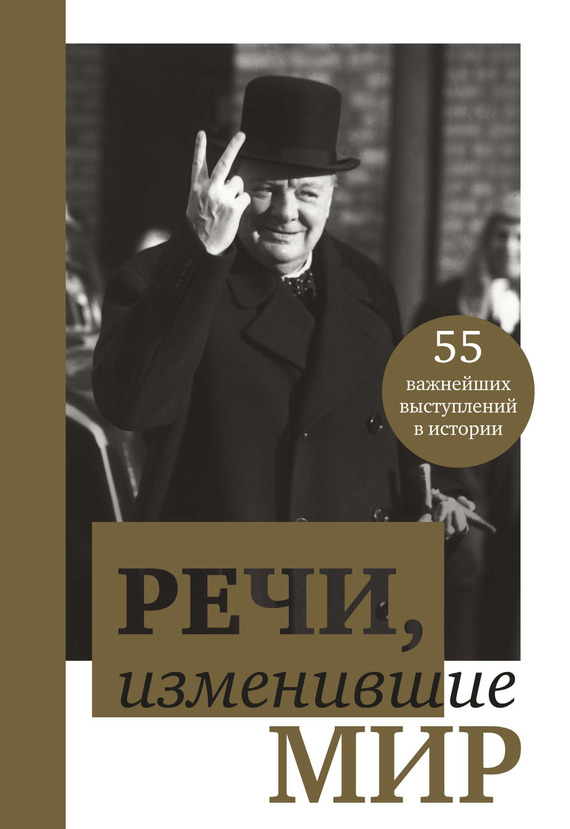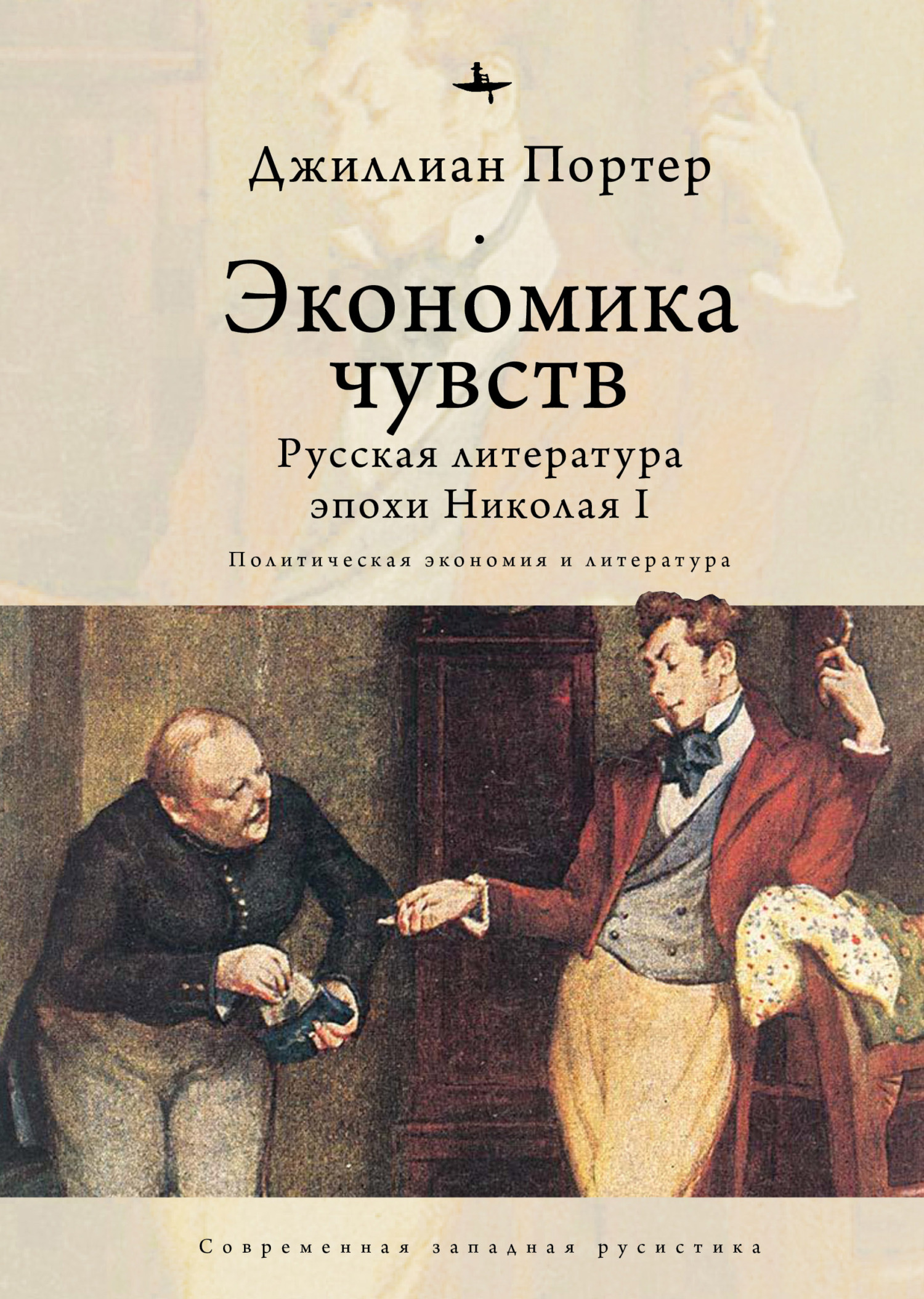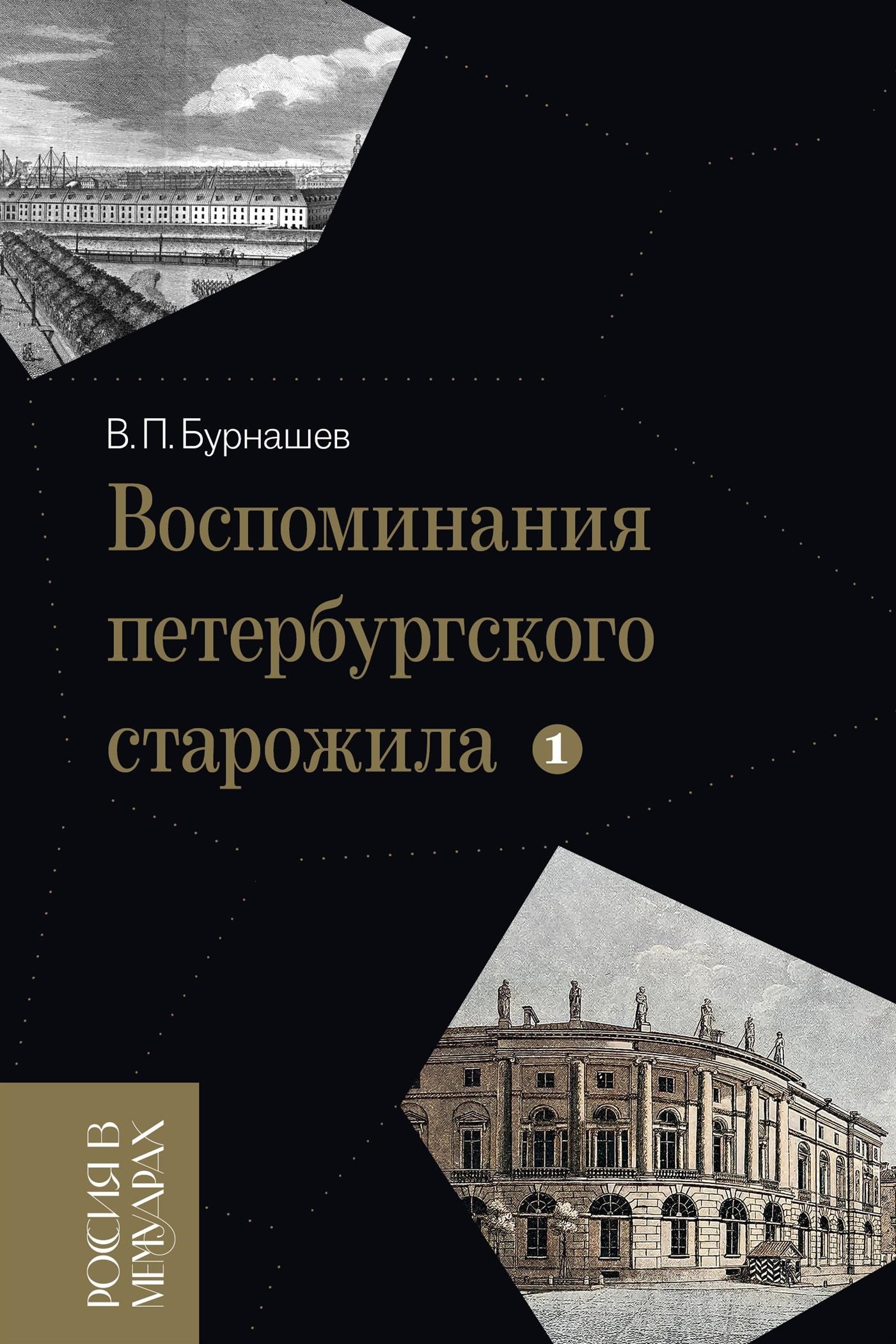Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110
коллектива Студии. Этим до сих пор не привлекавшимся по данной теме материалом послужил рукописный журнал (или газета) Первой студии МХАТ «Честное слово». Только в 1944-м Шагал признался в том, что, кроме недоразумения с Вахтанговым, у него имелся и другой опыт сотрудничества с Первой студией – тоже оказавшийся неудачным, причем вовсе не из-за системы Станиславского. В отличие от шагаловских работ для «Гадибука», о которых ничего не известно, в том числе, были ли они, – этот второй эскиз существует и опубликован. «Честное слово» проливает неожиданный свет на этот конфликт. Второй номер от «31 февраля» 1922 года писал:
«Барбизонцы[281]
В партии барбизонцев произошел раскол на почве постановки Ирландского героя.
Приглашенный левым крылом барбизонцев художник Марк Шагал представил эскиз декорации, изображающей зеленого барана и золотого тельца, связанных между собой кровавой спиралью, – символическое изображение молодых сил, истекающих кровью из-за халтурных условий жизни (золотой телец). В этом увидали намек на гражданскую войну.
Представители правого крыла категорически заявили о недопустимости хождения актеров по «спирали крови». Режиссер Дикий подчинился требованиям большинства. Художник Шагал выставил иск в 50 000 000 рублей, мотивируя это тем, что ему „нечего отказываться от своего счастья“. Дело дошло до Худсовета. Премьер-министр Б. М. Сушкевич проявил согласие быть посредником между барбизонцами и художником и даже вступил в переговоры с женой художника»[282].
В начале 1922 года Шагал действительно создал эскиз к этнографической пьесе ирландского драматурга Д. М. Синга (John Millington Synge (не Синдж!), 1871–1909), которая в оригинале называется «The Playboy of the Western World», в современном переводе – «Удалой молодец – гордость Запада», а в переводе К. И. Чуковского – «Герой». Студия выбрала промежуточный вариант – «Ирландский герой». Сам Чуковский свое сотрудничество со Студией в работе над спектаклем упоминал в дневнике в ноябре 1922 года[283].
Итак, что же произошло с постановкой Синга? Почему эскиз Шагала не был одобрен? До нас дошел этот рисунок либо, скорее всего, его версия или дубль. Находится он в Musee Nationale d’ Art Moderne, и мы не знаем, до какой степени он совпадает с исходным эскизом, забракованным Студией. Но, поскольку экспонат называется «Эскиз к пьесе Синга „Герой“», надо думать, что тут могут разниться только мелкие детали.
На музейном экземпляре изображена сцена, разделенная по диагонали красно-оранжевой спиралью. В левом нижнем углу, на небольшом возвышении стоит обычный шагаловский теленок оранжевого цвета: видимо, это и есть «золотой телец» из заметки. Но столь же вероятно, что перед нами знаменитая «красная телица» – библейско-мистический символ искупления. От этого животного восходит направо спираль и загибается вниз, заканчиваясь чем-то вроде косо висящей трапеции или лестницы. Под последним верхним витком спирали находится второе животное, весьма похожее на козлика, судя по форме рогов. Вразрез со своими инвективами в адрес Таирова, все еще «болевшего конструктивизмом», Шагал и сам попытался здесь создать конструктивистское оформление, не отказавшись, однако, от привычных для себя эмблем – элементов своего, впрочем, не слишком загадочного, символического языка.
Важнее всего, что над спиралью и параллельно ей, так же косо, свисает огромное перевернутое – явно низверженное – распятие с условной фигурой в нимбе[284], нанизанной на вертикальную ось, голова ее проткнута насквозь верхней осью «креста», а правая кисть отсутствует. Это реализация библейской клятвы: «Пусть отсохнет моя правая рука, если забуду тебя, Иерусалим». Тем самым эскиз упрекает персонажа в забвении национальных святынь. Христос свергнут, а дольняя жизнь (красная телица) как бы восходит на небеса по спирали, очевидно, в качестве некоего альтернативного божества; возможно, это фаворская спираль восхождения духа. На тот же мотив вознесения указывает фрагмент лестницы в небо – должно быть, это лестница Иакова. И телица, и козленок (козел отпущения) суть еврейские искупительные жертвы. Иисус же в христианско-канонической аллегорике замещает собой другое животное – агнца из библейской сцены жертвоприношения Исаака. По-видимому, сбрасывая Иисуса, Шагал отказывается от новозаветной человеческой (Богочеловеческой) жертвы, заменив ее прежней, ветхозаветной, жертвой, то есть вознесением искупительного животного вместо человека[285]. Художник как бы объявляет падение христианства и конец христианской эры.
Харшав не считает еврейских букв, нарисованных на кресте: шин, бет, мем (на древке креста), тав и др., связным текстом, отмечая лишь, что шин означает Шаддай, одно из имен Бога[286]. Все же шин-мем-бет-тав можно прочесть как Ша(м)бат, Суббота, что в апокалиптическом смысле, который суггестируют изображения, допустимо толковать как конец периода, или эона[287], как «субботу Творенья» теософской традиции.
Есенин. Понять символизм эскиза Шагала поможет сопоставление с русской революционной поэзией. Не случайно в «Моей жизни» Шагал с большой симпатией писал о Сергее Есенине.
Темы революционного богоборчества Есенина, а именно: апокалиптика, христоборчество и другие фундаменталистские мотивы[288] – почти целиком совпадают с темами богоборчества шагаловского. Наиболее отчетливо сходство с этим новым поэтическим миром Есенина у Шагала проступает в том, что в обоих случаях как бы обожествляются домашние животные; ср. в той же «Инонии»: «По-иному над нашей выгибью / Вспух незримой коровой Бог <…> Все равно – он иным отелится / Солнцем в наш русский кров»[289]. Ср. в годом раньше (1917) написанном «Преображении»: «Пою и взываю: / Господи, отелись! // Перед воротами в рай / Я стучусь: / Звездами спеленай / Телицу-Русь»[290].
Ходасевич так формулировал миф Есенина, воплощенный им в поэме 1918 года «Инония»:
«Небо – корова. Урожай – телок. Правда земная – воплощение небесной. Земное так же свято, как и небесное <…> Сам Есенин заметил, что образ телка-урожая у него „сорвался с языка“. Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес в него существенную поправку. Ведь телок родится от коровы, как урожай от земли. <…> Получится новый образ: земля-корова. Образ древнейший, не Есениным созданный. Но Есенин как-то сам, собственным путем на него набрел…»[291]
Хотя Есенин воскрешает древний доисторический или крестьянский миф, а Шагал ссылается на библейские образы и сюжеты, но оба пророчат конец времен и грезят о новом, лучшем мире, освященном новой (или очень старой) религией, где нет поклонения смерти: «Обещаю вам град Инонию, / Где живет Божество живых!», где между небом и землей восстановлена живая связь: «Не хочу я небес без лестницы» – ср. лестницу у Шагала, лестницу Иакова. Этот фундаменталистский идеал является заменой христианскому. Действительно, в поэме «Инония» описывается отречение от Христа: «Тело, Христово тело / Выплевываю изо рта. / Не хочу восприять спасения / Через муки его и крест».
Эти значения отметил Ходасевич – правда, он решил, что боготворимый есенинский телок не является альтернативной
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110