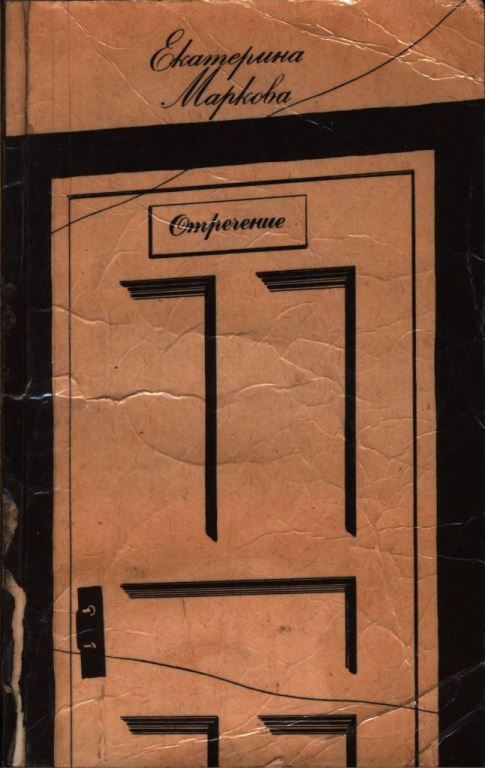Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 64
стеканьи влажном.
То вид Тавриды пред тобой,
То за стеклом лишь лист бумажный.
Проснувшись поутру, мой друг,
Пересчитай мазки глазами.
Они то разомкнутся вдруг,
То вновь сольются с небесами.
Как четки, пятна перебрав,
Внесешь в картину ты порядок:
Вот южных вод прозрачный сплав,
А там, правее, гор распадок.
Когда-то Пушкин, полный сил,
Влача счастливой ссылки бремя,
Средь гор таких же проводил
Свободное от стихотворства время.
Тавриды блеск и красота
Ему когда-то заменяли
Иные, дальние места,
Куда поэта не пускали.
Так, поутру, когда не спишь,
Отождествив мазок и взгорье,
Не только Крым ты посетишь,
Но все края Средьземноморья.
От нас, друзей, умчишься вдаль,
Скользнув душой за край картины.
Там сицилийских рощ миндаль,
А там и ветка Палестины…
Когда же мысль свою вернешь
Из тех пространств необозримых,
В краях московских вновь найдешь
Друзей, всю жизнь тобой любимых.
В соцветье серо-голубом
Купаясь взглядом, без огласки,
Их имена в уме своем
Перебери… как пятна краски.
Как я лечила неврозы
Году в 1998-м старенький еврейский доктор, пользовавший несколько поколений моих знакомых и родственников, уютно погладил разложенные на столе бумажки и спросил меня ласково:
– До какого возраста вы чувствовали себя абсолютно здоровым человеком?
Да, бог мой, я и сейчас, в свои сорок (подчищено) лет, чувствую себя совершенно здоровым человеком, если б не этот бич царя небесного – ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ.
Как это началось?
А черт его знает.
Никак.
Помню, гуляли небольшой, но очень толерантной компанией по заснеженному полю в Германии.
Мой второй муж, его предыдущая немецкая жена, ее теперешний немецкий муж, их дети и я.
Внезапно, откуда ни возьмись, что-то налетело, потемнело в глазах, застучало в ушах, и сердце стало выпрыгивать из груди и жечь, как проглоченный ежик.
Помню, не могли меня принудить лечь на супертехнологичную синюю каталку скорой – мне все хотелось бегать и размахивать руками.
Четверо красавцев-санитаров в оранжевых формах и прелестная югославка-докторша едва заставили меня поехать в больницу. Там, быстро и ни секунды не медля, сняли кардиограмму, взяли анализы, что-то щупали, за что-то брали – я видела все, как во сне, потому что мысленно прощалась с маленькой дочкой, оставшейся в Москве, и молилась, будучи совершенной атеисткой.
– Вы должны сесть в кресло и переехать в другую палату, – сказало вдруг нависшее лицо докторши по-немецки (хмурый от волнения муж переводил из-за кадра).
– Зачем?
– Это интенсивная терапия, вашу койку отдадут тем, кому действительно нужна срочная помощь.
– А мне – уже нет? – попыталась кисло сострить я из последних сил.
– Вы совершенно здоровы, только у вас пульс сто шестьдесят, – сказала красавица-доктор, – вы боитесь, от этого пульс стучит еще сильнее, а от этого вы еще сильней боитесь. Это называется «Тойфелькрайс» (кажется, так, переводится как чертов круг, то есть «порочный»). Вам сейчас дадут успокоительное, и все пройдет.
На соседней койке лежал весь в трубках изнеможенный старик. Пергаментно-серый и слабый. Кажется, ему-то было действительно плохо.
– Как сказать по-немецки «желаю вам поскорее поправиться?» – спросила я, но измученный тревогой муж уже не слышал, что-то обсуждал с докторшей.
– Ихь вюнше инен гуте бессерунг, – с чудным русским акцентом вдруг сказала мне на ухо нянька, катившая меня на кресле.
Я повторила.
Старик чуть улыбнулся и шевельнул рукой в проводах.
На следующий день все было совершенно в порядке, и меня выписали.
Помню, как ярким вешним днем шла с мужем пешком из клиники, жевала снег, плакала от счастья и не верила, что позволено еще пожить.
Но приступы эти так со мною и живут до сих пор.
Вот ничего-ничего, а вдруг налетает, бьет набатом в ушах, течет липким потом по спине, все кругом становится смазанным, как герой вуди-алленовской картины, страшно, тошно, иррационально и непонятно – с чего это вдруг?
Человек шесть психотерапевтов за много лет пытались меня вылечить от этой пакости всевозможными методами.
Скучно думать, сколько было изведено денег.
Помню, ходила к одному, молоденькому и щупленькому, на Фили.
Квартира была однокомнатная, я сперва думала, что он живет один, такой аутичный холостяк-фрейдист.
Сидела я там с ногами на его психами засиженном диване и что-то рассказывала про родителей, ранние любвя и утонувшего приятеля. Он включал какие-то техники, и я вдруг нет-нет да и ловила себя на том, что почти сплю и разговариваю бесконтрольно.
Осознав это, и я еле-еле удерживалась от того, чтоб, под видом откровения в трансе, не рассказать ему какую-нибудь престранную враку… Но, пока придумывала, оплаченный сеанс заканчивался.
Один раз кто-то потаенно шуркнул на кухне, а потом я, уходя, заметила дамские туфли и крохотные детские ботиночки в прихожей.
Это значило, что, пока я там, на диване, беззастенчиво, за свои деньги, мела пургу про свое в общем-то совершенно счастливое и безмятежное детство, его семейство молча сидело на кухне, и мама еще небось делала страшные глаза ребеночку, чтоб заткнулся, пока папа денежку зарабатывает…
Мне стало ужасно стыдно, и с тех пор я ходить к этому молодому специалисту перестала.
Была еще какая-то невыносимо вульгарная, крашенная во все цвета радуги авантажная дама с признаками ведьмы из Тропарево, которая велела мне закрыть глаза и вывалила мне на колени из банки несколько омерзительных резиновых трепенькающихся пауков.
Это, наверное, шокотерапия такая была. Я страшно испугалась, хотя ненадолго, потом стала хохотать и сравнивать пауков с разными публичными личностями.
Ведьма обиделась и сказала, что я сама несерьезно отношусь к своей проблеме и иронией загоняю внутрь все свои переживания.
Пауки мне не понравились, и к ней я тоже прекратила ходить.
В школе, где я работала тогда, местный психолог предлагал мне посетить какие-то групповые занятия по изжитию травмы, с мудреным названием, но я как-то, задержавшись за рисованием декораций к детскому спектаклю, открыла нечаянно дверь в класс, где занималась эта группа, и увидела несколько дам средних лет, сидящих кружком и гавкающих друг на друга. На эту группу я, разумеется, тоже не пошла.
Но атаки не прекращались.
Кроме того, они стали отвоевывать у меня мои любимые территории. Я очень любила ездить в метро, но с некоторых пор именно там, в любимой и уютной московской подземке, сосредоточился для меня весь ужас жизни. Причем устраивал это все демон у меня в мозгу, а не объективность, давка, толпа и пр. Как-то возвращаюсь я в полупустом вагоне с удачной встречи, а на Кропоткинской он и говорит мне отвратительным бэби-слэнгом: «И где это мы едем? Не в метро ли?» – «Баа!» – восклицаю я и
Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 64