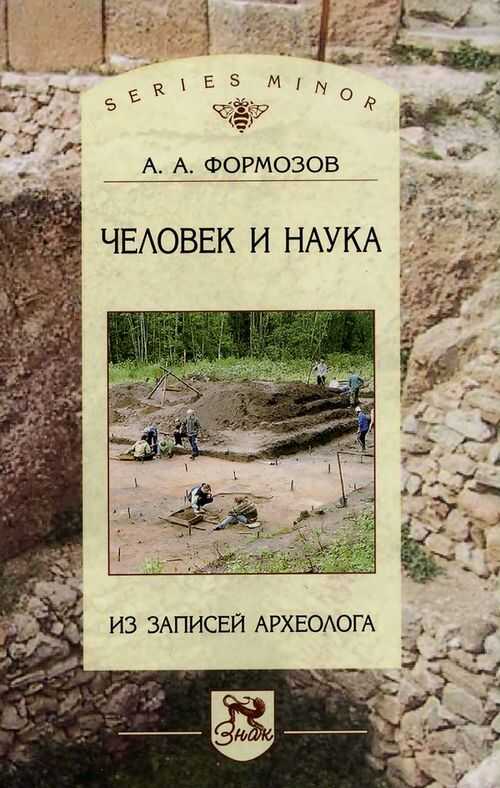Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 66
на дворик скотный
И выбери себе овцу».
И вот вступил я, беззаботный
На путь к бесславному концу.
Я оседлал овцу и с жаром
Воткнул в манду ей свой хуёк, —
Но в жопу яростным ударом
Меня баран с овцы совлек.
Я пал в навоз и обосрался,
И от обиды зарыдал…
Коварный небосклон смеялся
И победитель мой блеял.
Из переписки со всё тем же Садовским узнаём, что Тиняков писал такие стишки для развлечения Бориса Александровича. Вот, например, из письма к нему от 2 октября 1914 года, к которому было приложено «Настал июль…»: «С удовольствием исполняю Вашу просьбу относительно стихов. Чем богат, тем и рад». А вот от 6 июня 1915-го: «Хотел было переписать несколько похабных вещиц, но так как Вы из всего подобного делаете вредное для меня употребление, то испугался и даже оторвал исписанный листок».
Известно, что и Сергей Есенин во время первых своих публичных выступлений исполнял матерные частушки. Многим питерским литераторам нравилось.
* * *
Тиняков, конечно, видел себя персонажем. Персонажем представления под названием «жизнь». И «жизнеделание», о котором не раз на этих страницах упоминалось, тому подтверждение. А «жизнеделание» творится в расчете на то, что это заметят, запомнят, занесут на скрижали истории.
Александр Иванович почти не оставил так называемой мемуаристики. Вполне вероятно, она была, кое-что даже анонсировалось, но сейчас мы имеем два очерка – об Александре Блоке и Валерии Брюсове, – которые имеют одинаковый подзаголовок: «Отрывки из воспоминаний». Может, действительно «отрывки», а может, и главки воспоминаний ненаписанных.
Фрагменты из очерка о Брюсове я уже приводил, теперь вставляю в книгу очерк о Блоке целиком. Опубликован в петроградской газете «Последние новости» ко второй годовщине со дня смерти поэта.
Памяти А.А. Блока
(Отрывки из воспоминаний)
Я познакомился с А.А.Блоком вскоре после моего переезда из Москвы в Петербург – 9 октября 1912 г.
Стихи его я знал давно – с 1903 г. и разумеется ценил их высоко. Но восторженного отношения к поэзии Блока у меня тогда не было, и даже по временам бывал я не чужд некоторого недоброжелательства к его творчеству.
Дело в том, что я принадлежал тогда к немногочисленной, разрозненной, но, тем не менее, фанатичной секте «брюсовцев».
Теперь мне странными кажутся те восторги, которые возбуждало в нас творчество Брюсова. Беру те же книги Брюсова, читаю те же его стихи, соглашаюсь, что среди них есть вещи великолепные в техническом отношении, но в общем решительно не согласен признать их созданиями истинной поэзии. То же и относительно личности: припоминаю мои встречи с Брюсовым, его жесты, его «крылатые слова», соглашаюсь, что он – умный, культурный, интересный человек. Но ведь тогда было не то! Для Нины Петровской, для Б.Садовского, для меня и для целого ряда молодых людей, не выступавших в литературе, Брюсов был каким-то полубогом, истинным магом и поэтом единственным.
Мне не стыдно признаться в этом теперь, когда Андрей Белый в своих воспоминаниях о Блоке рассказал, что и в их среде также царило преклонение перед Брюсовым. Уж если их, – людей и поэтов старшего поколения, притом стоявших во главе культурного движения эпохи и, – как показало время, – превосходивших Брюсова одаренностью, – увлекала и покоряла эта личность, то что же говорить о нас?!
Как бы то ни было, но я, пожалуй, дольше и глубже других переживал это необъяснимое очарование.
А между тем к 1912 году у многих уж наступало отрезвление. И как раз в том небольшом литературном кружке, где я тогда часто бывал, – в кружке московской поэтессы Любови Столицы, – все чаще и все восторженнее упоминалось имя Блока. Мне, как ярому «брюсовцу», это было нестерпимо, я усматривал в этом не то погоню за модой, не то дурной вкус и, во всяком случае измену «великому», «единственному». И невольно раздражение против «пропагандистов» Блока я переносил и на личность самого Блока.
В сентябре месяце 1912 г., выпустив в свет мою первую книгу стихов (у «Грифа»), я переехал в Петербург и в первые же дни по приезде получил письмо от А.М.Ремизова. «Пишу о вас Блоку, Александру Александровичу, – сообщал между прочим Алексей Михайлович, – а вы ему напишите, спросите его, чтобы назначил он вам день и час. Блок в Академию поэтическую вас введет и в цех поэтов, если пожелаете».
Признаюсь, – все это было для меня неожиданно; ни о личном знакомстве с Блоком, ни тем более о «цехе поэтов» я по правде сказать, вовсе и не думал. Но теперь вежливость обязывала меня написать Блоку, что я и сделал. Через день получился такой же вежливый, краткий и точный ответ:
Многоуважаемый
Александр Иванович.
Прошу вас, зайдите ко мне во вторник, 2-го октября, в 3 часа дня.
С совершенным уважением
Александр Блок
И вот я шел 2 октября на Офицерскую без большого желания и без каких бы то ни было ожиданий. «Отчего не познакомиться с известным поэтом? Но что же он даст мне… после Брюсова?» – так, приблизительно, чувствовал я тогда.
Но зато теперь, оглядываясь на все наше знакомство, теперь, когда я уже не услышу больше милого, несколько глуховатого и как бы придушенного голоса Александра Александровича и никогда не увижу его пленительной, чуть-чуть насмешливой и в то же время как бы стыдящейся своей насмешливости, – улыбки, – о, как я благодарен теперь А.М.Ремизову за его непрошенное посредничество при этом знакомстве!
Знакомство с Блоком внесло в мою жизнь нечто несомненно значительное и столь светлое, что я прямо склонен назвать его счастьем.
О чем я говорил с Блоком во время первого свидания, передать решительно не могу, хотя уже в тот же день в моем дневнике появилась восторженная запись о нем. Московское недоброжелательство растаяло сразу и навсегда, и с тех пор начались наши встречи, не частые, но всегда полные глубокого значения для меня.
Андрей Белый в своих воспоминаниях о Блоке с сожалением восклицал: «Зачем я не молодой человек Эккерман?» Мне это сожаление кажется бесплодным. Эккерману нечего было бы делать с Блоком, и вообще никаких «Разговоров Блока» появиться в свет не может, как нет их, в сущности, и в воспоминаниях Белого.
Вот несколько записей из моих дневников, сделанных немедленно после встреч с Блоком:
Утром пошел к Блоку; завтракал и просидел почти до 4 часов. Беседу мою с ним передать сейчас не могу: так глубоки и неуловимы для слов были темы нашего
Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 66