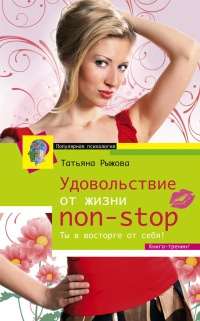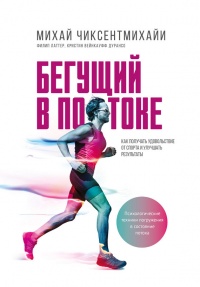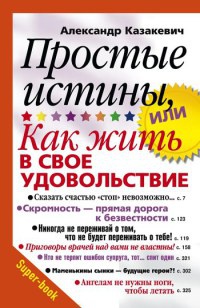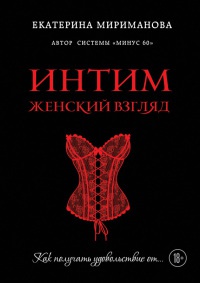Следующий диалог – игра, в которую я под видом спрашивающего постараюсь побыть в роли Лаканова «большого Другого»: посмотреть на себя с точки зрения «общего знания», поставить вопросы, которые, судя по всему, «общему знанию» apropos теории Лакана не дают покоя.
Субъективная нищета
В чем состоит воздействие психоанализа, психоаналитического лечения как специфического субъективного опыта? Принято считать, что психоанализом подрывают нарциссизм субъекта, помогая ему пережить свое смещение из центра, зависимость от Другого…
Все это происходит еще до самого́ психоанализа, на так называемых предварительных встречах. Эта «коррекция субъективного отношения», как именует его Лакан, двойная: субъект вынужден признать внутреннюю невозможность в том, что ему кажется случайной помехой, результатом неудачных обстоятельств и – та же процедура в обратном порядке – разглядеть успех в том, что ему представляется неудачей. Достаточно вспомнить риторические фигуры, какими изобилуют теоретические тексты: «Ограничения объема данной книги не позволяют более подробного изложения…», «здесь мы можем себе позволить изложить лишь в общих чертах то, что следует объяснять в гораздо более подробном понятийном рассуждении…» и т. д. – во всех подобных случаях можно не сомневаться, что эти отсылки к внешним, эмпирическим ограничениям суть попытки скрыть внутреннюю невозможность: «более подробное изложение» априори невыполнимо – или, точнее, оно ослабит сам тезис, который требовал якобы более подробного изложения. Показательный случай подобной симптоматической отсрочки – заглавия многочисленных марксистских книг, издававшихся в 1960-е, в которых виден неотвязный страх столкнуться с «само́й вещью»: не встретишь среди них заглавия «Теория идеологии», впрямую, а всегда это вот – «К теории идеологии», «Элементы будущей теории идеологии» и т. п.
Что же до противоположного действия – признания успеха в кажущемся поражении: не будем полагаться на типовой пример – оговорки, в которой являет себя истинное желание субъекта, а обратимся к политико-идеологической сфере. Официально «социалистическое» образование в коммунистической Восточной Европе стремилось создать нового Человека-Социалиста – честного, приверженного общественному благополучию, жертвующего узкими частными интересами во имя будущего и т. д. Настоящий результат такого образования, разумеется, – циничный индивид, который, публично участвуя в официальном идеологическом ритуале, оставался внутренне отстранен, насмехался над идиотизмом социалистической идеологии и ограничивал свой подлинный интерес личными удовольствиями. Если оценивать по заявленным целям, «социалистическое образование» было чудовищной неудачей. А что если истинная цель была именно в создании такого деполитизированного циничного индивида, поскольку он – как раз то, что надо для воспроизведения существующих соотношений сил? Куда опаснее циника был бы кто-нибудь, наивно верящий в систему: поскольку такой человек склонен воспринимать все дословно, он уже наполовину диссидент. Я лично был знаком с одной женщиной из бывшей Югославии, которая потеряла работу в ЦК из-за своей искренней веры в самоуправление: циничные партийные бюрократы сочли, что она представляет для них угрозу…
Не возвышенный ли вариант полного унижения, «десубъективации», описанной Оруэллом, среди прочего, в романе «1984», показательный случай которого в «действительности» – чудовищный судебный произвол при Сталине, – подобная нарциссическая потеря, или, скажем резче, «субъективная нищета»? Не означает ли она сдвиг, вынуждающий субъекта отказаться от внутреннего ядра его или ее достоинства?
Отчего ж нет? В психоанализе, если совсем точно, все еще хуже, чем при Сталине. Да, нам приходится отказываться от тайного сокровища в себе самих, от агальмы, которая дарует нам наше глубинное достоинство – все самое дорогое персонализму; да, мы вынуждены пережить преобразование нашего сокровища в «дерьма кусок», в смердящий экскремент – и отождествиться с ним. Однако – и как раз поэтому в психоанализе все еще хуже, – анализант должен завершить это преобразование самостоятельно, без ссылки на кошмарные обстоятельства.
«Субъективную нищету», связанную с позицией аналитика qua объекта а, можно проиллюстрировать историей из жизни американского довоенного Юга. В борделях тогдашнего Нового Орлеана черного слугу не держали за человека, и потому пару белых – проститутку и ее клиента – нимало не побеспокоило, когда в комнату входил слуга с напитками: они попросту продолжали совокупляться, поскольку взгляд слуги за взгляд человека никто не считал. В некотором смысле то же и с аналитиком: разговаривая с ним, мы отрясаем всякий стыд и способны доверить ему самые сокровенные свои любови и ненависти, хотя наши отношения с ним полностью «безличные», в них нет близости настоящей дружбы.