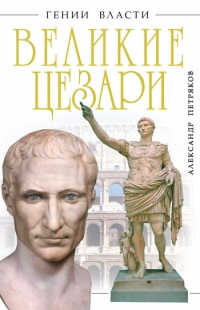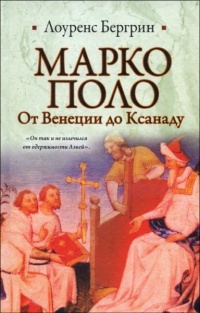И храбрый лев бывает убит, Когда свой дротик бросит нумид.
* * *
С той ночи, когда Опимия в порыве своей лихорадочной любви бросилась в объятия Луцию Кантилию, состояние души молодого римского всадника резко переменилось.
Он с юношеским пылом своих двадцати восьми лет, в кипении всех своих чувств зажёгся упоительным, возбуждающим сладострастием, родившимся в нём от поцелуев распрекрасной весталки, предался всем восторгам, всем безумиям этой новой любви, которую он благословлял, когда оказывался в объятиях Опимии, но расставшись с девушкой, терзался и сетовал.
«Я, — не раз думал удачливый молодой человек, — любил Флоронию, и любовь к ней очень отличалась от чувства к Опимии. Флоронию я люблю не только из-за её красоты, но и благодаря страстной сладости её души, благодаря стольким достоинствам, стольким добродетелям, которые я успел познать в ней и оценить». И вот в такие моменты спокойных раздумий он чувствовал, что, поставленный выбирать между Флоронией и Опимией, он не будет сомневаться: Флорония — женщина его сердца. Но как же и почему же он не мог, не умел избавиться от чарующих объятий Опимии?.. Почему же, понимая и чувствуя, что он предаёт Флоронию, и очень несправедливо, испытывая даже угрызения совести от этого обмана, почему же он, почти вопреки себе самому, почти бессознательно, был вынужден чередовать часы своей таинственной ночной любви между одной и другой весталкой?..
Вот о чём Луций Кантилий часто спрашивал себя, вот какие размышления вызывали в глубине души горькие угрызения, вот какие мысли портили его существование, отравляли летучие часы счастья, которое выпадало ему каждую ночь во время тайных свиданий в храме Весты.
Много раз Луций Кантилий, особенно тогда, когда рядом с ним была Флорония, твёрдо решал, что больше не увидит Опимию, и клялся себе самому, что следующей ночью он проникнет в сад Весты только в часы дежурства Флоронии или, если она должна была стеречь огонь богини раньше Опимии, уходить сразу же после свидания с Флоронией и не возвращаться назад, как он часто делал прежде.
Но все эти добрые намерения, все эти твёрдые решения ставились под сомнение, как только он расставался с Флоронией, и полностью улетучивались, когда приходило время привести их в исполнение.
Тогда мало-помалу из самых глубин его сознания стал подниматься другой голос, который вначале нашёптывал слова сострадания, но потом громко заговорил могучим языком страстей.
«Почему же он делает несчастной эту бедную Опимию, которая так беспредельно, так сильно, так пылко любит его?.. Зачем же он приносит столько зла несчастной девушке?.. А если она, без какой-либо его вины, безумно влюбилась в него, если её, хотя он об этом и не догадывался, захватило глубокое чувство, которое он не может подпитывать, полностью игнорируя, если всё это случилось, если всё это существует, может ли он ломать жизнь юной весталки, хотя её жизнь — и это было уже ясно — сведена полностью к огненно-пылкой любви?.. Мог ли он сделать несчастной ту, единственная вина которой заключалась в том, что она любит его?.. Любой мог бы осуждать Опимию, порицать — любой, но не он!.. И потом Опимия была такой прекрасной, такой жаркой, экспансивной... В её поцелуях сокрыто столько сладострастия, столько небесного экстаза... что он не владеет своей душой, у него не хватает сил... нет... в конце концов он чувствует, что не может, ну, никак не может пропустить условленное свидание с нею...
«Скорее... вот... он сделает так... Этой ночью он будет с Опимией... и попытается убедить её, чтобы она перестала тешить себя быстротечными снами, преступными опьянениями, толкающими на святотатство и на самое ужасное наказание, какое только может изобрести человеческий гнев. Да... он решился... Он пойдёт... но в последний раз, и... да... он решил... так он и поступит...»
Так он и поступил, но от того, что он наобещал сам себе, ничего не осталось. И вот его жизнь превратилась в постоянную борьбу, и оттого он сделался задумчивым, печальным, насупленным. Его охватывали чары, которые осуждал разум; он знал верную дорогу, но не мог пойти по ней; в одно и то же время он хотел и не хотел; и среди всех этих колебаний он чувствовал, хотя и не смел себе в этом признаться, что у Флоронии он любил душевную красоту, тогда как в Опимии — красоту форм, что одна похитила его душу, тогда как другая опьяняла его чувства; одна любила глубоко, другая — пылко; чувства одной были благороднее, в другой по-юношески кипели страсти.
И такая борьба противоположных чувств и порывов происходила в них до того самого дня, когда Кантилию надо было ехать в Апулию, к своему легиону, в который он записался добровольно (так как был благородным и беспредельно преданным родине гражданином), присоединиться к своей когорте, однако он всё откладывал да откладывал отъезд и собрался в дорогу только в первые дни мая.
В лагере мысли его метались между Флоронией и Опимией. Вернувшись в Рим с упомянутым письмом консула Варрона, Кантилий, не задумываясь, хотя и не желая этого, увлечённый, так сказать, ходом событий, возобновил прежнюю жизнь.
Тем временем Флоронию постигла беда.
С конца мая она заметила в себе серьёзные перемены: сначала она тешила себя надеждой, что обманулась, потом сомневалась, не верила фактам, всё ещё надеялась... пока окончательно не убедилась...