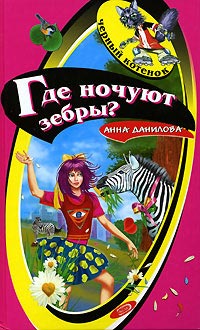Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 72
он попытался разбить ножом, пало жертвой неопытности повара и разлилось по плите. Но три оставшихся он успешно разбил о бок сковородки, как это делала мама, и они зашкварчали в масле, мигая тремя желтыми сердцевинами. Пока все получалось. Олежка даже не забыл про соль и мысленно похвалил себя за это, но, ставя солонку обратно в шкаф, вспомнил, как мама, если пересаливала какое-то блюдо, шутила, что повар влюбился, потому что как же можно не влюбиться в нашего замечательного папу, и к горлу подступили слезы.
Из большой комнаты донесся слабый мамин голос. Она просила проводить ее в уборную, у нее кружилась голова. Сделав пару шагов, мама остановилась, сказала, что ее знобит, и попросила плед. Олежка сбегал за своим красным клетчатым пледом, под которым всегда болел, завернул в него маму, и они медленно пошли по коридору, шажок за шажком. Мама, всегда такая мягкая и податливая, стала теперь грузной и тяжелой и больно давила Олежке на плечо. Медленно дошли они до туалета, Олежка зажег там свет, снял с маминых плеч плед и закрыл за ней дверь. Он сел на пол в коридоре, прислонившись к стене, и почувствовал, что темнота немного отступила, – все же мама встала, пошла, заговорила хоть чуть-чуть, – пока из кухни не послышался запах горелого.
Часть яичницы все же удалось спасти, но мама завтракать не стала. Выйдя из уборной, она вернулась к себе в комнату и снова легла, только поверх одеяла набросила еще плед и попросила задернуть шторы.
– Мама, ну хоть чуть-чуть поешь? Мамочка, что с тобой? – проговорил Олежка, еле сдерживая слезы.
– Все хорошо, все хорошо, – еле слышно отозвалась она.
– Ну как же хорошо? Мам, мне страшно, когда ты такая.
Мама медленно повернулась, открыла глаза, посмотрела на Олега мутным взглядом и попыталась улыбнуться.
– Все хорошо, правда.
Олежка заплакал. Не было ничего хуже этой маминой улыбки, вымученной и страшной, как гримаca Гуинплена.
Остатки яичницы он съел сам, заел хлебом. Перед ним простирался целый длинный темный день, и Олежка совсем не знал, что с ним делать. У бабушки с дедушкой в деревне телефона не было. Обычно они звонили с почтового отделения или присылали телеграмму. Редко, когда было что-то срочное, звонили от соседа, которому, как инвалиду войны, недавно провели телефон. Дедушка, между прочим, тоже был инвалидом войны, да еще каким, у него на бедре была воронка такой глубины, что Олег мог засунуть туда палец, но до дедушки очередь еще не дошла. Очень хотелось поговорить с бабушкой, но телефона того соседа Олежка не знал. В маминой записной книжке он разобраться не смог – там все было «по-письменному», и почерк он не понимал.
Олежка позвонил Грише. После прогулянного концерта в музыкальной школе они были не разлей вода. Им тогда, конечно, влетело по полной программе: Олегу от отца, Грише – от бабушки. В тот день, не сразу после концерта, а аккурат тогда, когда вся семья собралась за ужином, у Гришиной бабушки случился приступ – то ли сердечный, то ли гипертонический, но главное, вызванный жестокосердным внуком, который не чтит памяти деда, не уважает преподавателей и не жалеет бедной больной бабушки, в конце концов, которая с такими усилиями устроила его в такую прекрасную школу. Она принялась отсчитывать капли валокордина, но тут на Гришину защиту внезапно стала мама и сказала, что с этого момента отказывается мучить ребенка, что нельзя заставлять человека делать то, что он не хочет, что семьдесят лет уже заставляли, хватит, и что если у бабушки болит сердце, то пусть она пройдет обследование у себя же в больнице, далеко ходить не надо, замечательные коллеги-кардиологи быстро поставят ее на ноги. Так Гриша получил вольную. Олег – нет.
Олежка несколько раз набирал номер, у Гриши все время было занято. Когда он наконец дозвонился, к трубке подошла Гришина строгая бабушка и сказала, что сейчас не до праздных разговоров, телефон занимать нельзя, и чтобы Гришины друзья звонили потом.
По телевизору шли то новости, то балет – смотреть было нечего. Может, попробовать видеомагнитофон? Видик стоял в большой комнате, там, где спала мама, но, если поставить совсем тихо, мама не проснется.
Видеокассеты папа почти все забрал, осталось только несколько домашних записей без обложки. На первой кассете был тот злополучный сеанс Кашпировского с Олежкиного дня рождения. С того вечера Олежка испытывал к народному целителю стойкую неприязнь, ведь Кашпировский обещал ему, что все будет хорошо, все пройдет, но все стало только хуже, гораздо хуже. На второй кассете была записана «Полицейская академия», папина любимая комедия, которую они с Олежкой много раз смотрели вместе и хохотали до боли в животе, но сейчас было не то настроение. Олежка посмотрел несколько минут и выключил.
Оставалась еще одна запись. Может, какой-то боевик с Джеки Чаном? Или «Терминатор», или «Рокки» – чтобы хоть чуть-чуть отвлечься, забыться. Видеомагнитофон послушно заглотил кассету. Изображение на экране дернулось, и перед Олежкой снова появилось каменное лицо Кашпировского, который давал установку на восстановление организма. Олежка поморщился и уже собрался выключить кассету, как вдруг по экрану поехала дрожащая полоса, Кашпировский исчез, и вместо него возникли мужчина и женщина – абсолютно голые, если не считать длинных бус на шее у женщины. Олежка оторопел. У женщины была большая грудь, а у мужчины мускулистое тело и волосы до плеч. Они лежали на кровати и неуклюже терлись друг о друга, как котята у бабушки в деревне, когда те валялись на солнышке на траве возле крыльца, а потом женщина опустилась перед мужчиной на колени и стала делать что-то настолько странное и мерзкое, что Олежка дрожащими руками бросился нажимать кнопку «стоп» на пульте, но тот выпал из рук, и тогда пришлось потянуть за телевизионный шнур и выдернуть его из розетки. Экран потух, и Олежка боязливо обернулся на маму – а вдруг она видела этот стыд. Но мама лежала все так же молча, не шелохнувшись. Больше телевизор Олежка не включал.
До сих пор Олежка считал, что тоска и безысходность – это запах детсадовской овсяной каши, который разносился по всему зданию и оглушал, когда они с мамой только входили в подъезд и поднимались по лестнице, запах, который предвещал целый нескончаемый день испытаний: чешки, ритмика, оранжевый гороховый суп, окрики Нины Петровны, тихий час, молоко с пенкой и бесконечные часы и минуты ожидания вечера, когда он снова увидит маму. Но оказалось, что нет, то было еще сносно, то было вовсе не так
Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 72