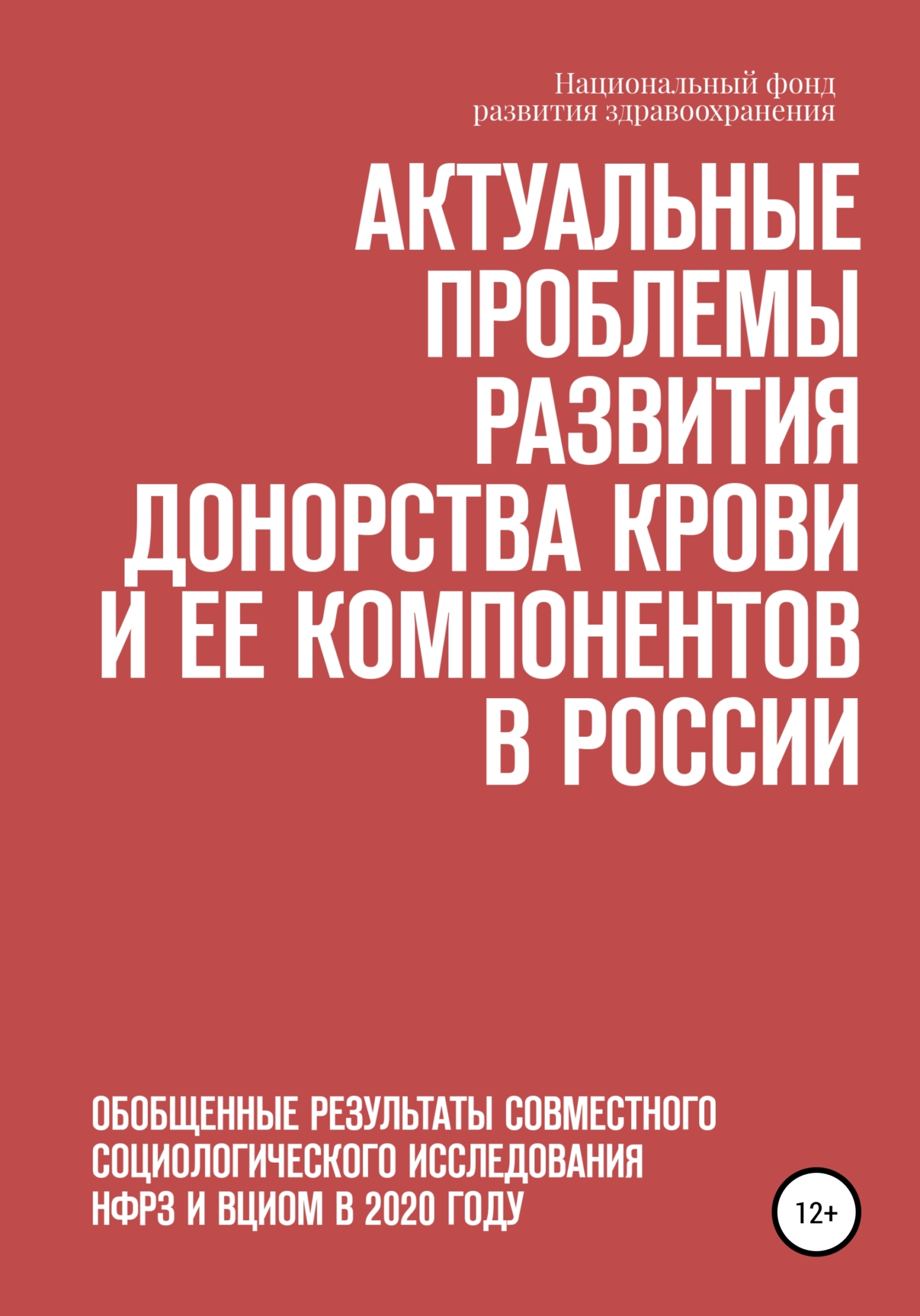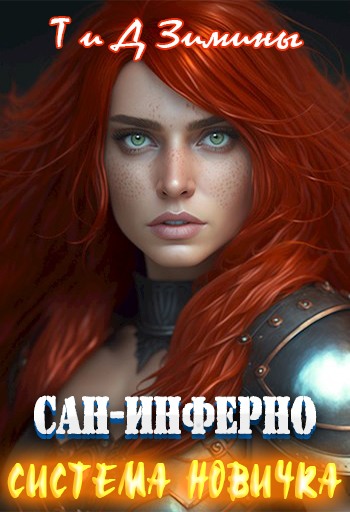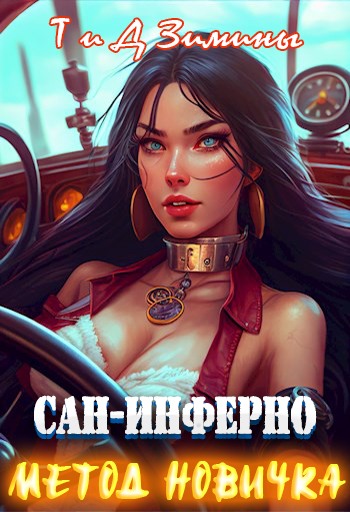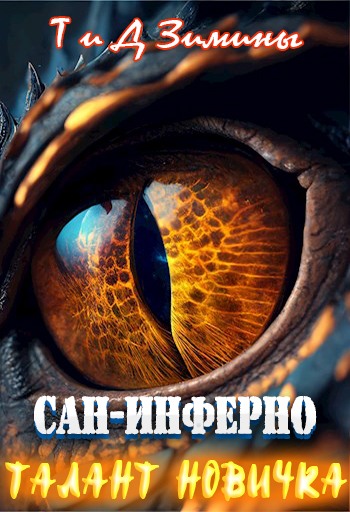Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 91
исследованиями в области наук о жизни, и эти две сверхмощные компании создали новую супергруппу, которую они замечательным образом назвали Galvani Biosciences. Начальные пилотные исследования подтвердили возможности данного подхода – в частности, было обнаружено, что правильно подобранная серия электрических импульсов, направленных в правильный пучок нервов, может обратить развитие диабета у мыши.
Преодоление оставшихся технических проблем “может занять десять лет”, сообщил глава отдела биоэлектронных исследований и развития компании GlaxoSmithKline Крис Фэмм в интервью Бехар из New York Times. Но через год он сообщил журналисту из CNBC, что через десять лет “у нас появится ряд микроскопических устройств, способных справляться с недугами, для борьбы с которыми сегодня мы используем молекулярную медицину”, тем самым обозначив появление “нового класса новых терапевтических возможностей”. Все, что я могу вам сказать: не верьте десятилетним прогнозам.
С тех пор электроцевтика продвигалась очень-очень медленными шагами (отчасти это связано с проблемами патентования). Никому так и не встроили протез размером с зернышко риса, который контролировал бы нейронные сигналы в организме. Galvani Biosciences все еще существует, но в целом просто повторяет уже полученные результаты, не вызывая большого интереса у прессы.
В какой-то степени это обычный сценарий американских гонок “хайпа”. Сначала звучат громогласные заявления о новых возможностях, поднимается ажиотаж. Затем начинаются обычные рутинные исследования и длинная череда разочарований, поскольку новые и интересные устройства не появляются мгновенно. В конце концов в результате длинной последовательности клинических исследований накапливаются положительные результаты, и постепенно бывшие революционные достижения включаются в обычную медицинскую практику и становятся нормой каждодневной жизни. Вообще говоря, судя по всему, сейчас именно это и происходит: в 2022 году компания Galvani запустила первые клинические испытания устройства для борьбы с аутоиммунным нарушением[416].
Вполне может быть, что электроцевтика развивается по классическому пути продвижения инноваций. Но даже если эти устройства пройдут клинические испытания, они натолкнутся на те же преграды, которые не позволили людям творить чудеса с помощью метода глубокой стимуляции мозга.
Неудивительно, что воткнуть булавку в 100 тысяч волокон блуждающего нерва оказалось гораздо сложнее, чем сообщалось изначально; результаты были неоднозначными и сопровождались неожиданными побочными эффектами[417]. Некоторые из них перечислены в книге “Опасность внутри нас”, выпущенной в 2018 году бывшим врачом-реаниматором Жанн Ленцер, которая занялась журналистикой после того, как стала свидетелем опасных для жизни последствий использования первого поколения таких имплантатов. Это были отнюдь не рисовые зернышки, о которых сообщала компания Galvani, а крупные устройства типа кардиостимуляторов, которые встраивали пациентам еще до того, как мы по-настоящему поняли, каким образом стимуляция блуждающего нерва позволяет ослабить симптомы не поддающейся лечению эпилепсии. Книга Ленцер в основном описывает технологию, одобренную FDA задолго до того, как Кевин Трейси обнаружил, что она может воздействовать на иммунитет. У одного из пациентов Ленцер использование устройства нарушило работу сердца[418].
Как оказалось, металлические имплантаты для стимуляции нервной системы не очень-то с ней совместимы.
Недостатки имплантатов
Для взаимодействия с электрическими сигналами организма (как для чтения, так и для записи) требуется электрическое устройство. Мозговые и сердечные имплантаты, включая кардиостимулятор или устройство для глубокой стимуляции мозга, традиционно изготавливают из материалов, применяемых в полупроводниковой промышленности, таких как кремний или металлы, которые регулируют поток электричества, в их числе золото и платина.
Но (к сожалению) наше тело сделано не из золота. Между такими имплантатами и биологией не возникает горячей любви, и с большой вероятностью в теле поднимается здоровая волна сопротивления чужеродному материалу. Наиболее ярко это проявляется в случае мозговых имплантатов, которые вызывают в мозге защитный воспалительный ответ. И мозг нельзя в этом обвинять, поскольку в процессе вживления “микроэлектроды разрывают кровеносные сосуды, механически повреждают мембраны нервных [и других] клеток и пробивают брешь в гематоэнцефалическом барьере”, как сообщали в 2019 году авторы одного широко цитируемого исследования о возможных способах ослабления воспалительного ответа[419]. И с тех пор ситуация не сильно улучшилась.
У некоторых людей просто нет иного выбора (о некоторых из них я рассказывала в главе 5), и вживление электрода помогает ослабить тяжесть симптомов. Но это компромисс. Поскольку, как не крути, металлы – инородное тело для мозга. У этих двух материалов разный модуль Юнга – показатель упругости, характеризующий способность материала сопротивляться разрыву. В отношении мозга модуль Юнга описывает не только гибкость, но и способность возвращаться в предпочтительное состояние после деформации. Представьте, что у вас есть желатиновый шарик и карандаш и вы втыкаете карандаш в шарик и ходите с ним по дому. Поначалу вы не видите зазора между шариком и карандашом: они находятся в тесном контакте и в местах соединения не видно разрывов. Но через какое-то время вы обнаружите, что желатин начинает отходить от карандаша. Шарик страдает сильнее карандаша: кроме заметных разрывов между ними в желатине возникают иные структурные изменения, вызванные дестабилизирующим влиянием внедрения – боковые трещины, отходящие от разрыва, произведенного карандашом. Желатин постепенно теряет структурную целостность.
Понятное дело, никому не хочется, чтобы нечто подобное происходило у него в мозге. Умершие нейроны не восстанавливаются. Чтобы поддержать их и защитить, мозг использует вспомогательные клетки, называемые глией. Их традиционно считали защитниками и уборщиками, охраняющими нейроны и позволяющими им функционировать оптимальным образом. После вживления электрода эти клетки пытаются защитить остальные части мозга от разрыва, произведенного жестким и громоздким электродом и мертвыми нейронами. Чтобы сохранить целостность мозга, они облепляют имплантат толстой пленкой из белков и клеток. И это создает пространственный и механический барьер, который по мере разрастания изменяет электрические сигналы, посылаемые и получаемые электродом. Со временем сигналы теряют отчетливость, а через какое-то время имплантат перестает работать вовсе. На этом этапе его необходимо заменять, для чего требуется очередная операция на мозге и новый имплантат, и опять появляются мертвые нейроны и рассерженные клетки глии.
Однако и для карандаша в нашем примере ситуация не совсем благополучна. Прерывание сигналов – не единственная проблема для имплантата. Биологические ткани враждебны по отношению к таким материалам, как металл и кремний. Представьте себе, что наш желатиновый шарик – не безопасный сладкий десерт, а едкая смесь соли и уксуса. Карандаш может выглядеть нормально, но, если его оставить в этой смеси надолго, в нем начнут возникать повреждения. Ерунда, когда это карандаш стоимостью в один фунт, но чрезвычайно дорогой, чувствительный экспериментальный электрод – уже совсем другая история.
Инженеры проверяют продолжительность службы материалов для протезирования, погружая инструменты в теплую соленую воду на несколько недель, пытаясь получить приближение того, что будет происходить с ними за пару лет внутри человеческого тела[420]. Но
Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 91