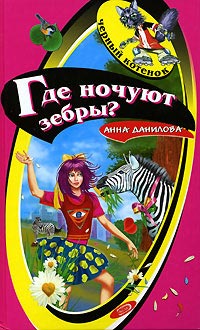Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 72
не скажешь. Глаза б мои на нее не глядели, – сквозь шум воды до него доносился бабушкин голос. – Так давай, давай, повернись, я тебе спину потру.
Мама не отвечала.
– Ничего, отольются еще ей твои слезы… А где у тебя расческа лежит? Давай причешемся…
Наконец бабушка вывела маму в халате, распаренную, с мокрыми волосами, точно так же, как еще недавно мама выводила из ванной Олежку, закутанного в огромное взрослое махровое полотенце с пионами.
Дальше был ужин. Голубцы, так и простоявшие почти двое суток на плите, окончательно испортились, и бабушка сварила гречневую кашу. Молока, как известно, не было, только кефир, зато оставалось масло. Идти на кухню мама отказалась, и бабушка кормила ее прямо в кровати – повязав вокруг маминой шеи вафельное кухонное полотенце, как Винни-Пух Пятачку, когда те были в гостях у кролика. После ужина мама снова легла.
Олежка думал, что мама спит, но она не спала – она думала. Напряженно думала, прокручивала разные варианты, пыталась понять, осознать, осмыслить. Как могло это произойти? Мысль ее бегала, как шарик в лабиринте, и все замыкалась, возвращалась в изначальную точку – как же так, почему, чем ему не жилось, это помутнение, так не может быть, он вернется, надо только подождать, и он вернется. Выход наверняка был, его нужно было только найти, увидеть, подобрать ключ. Шарик безустанно двигался по кругу, пытался соскочить со своей орбиты, попасть в другую лунку, на другую ось. И наконец ей это удалось.
Когда уже собирались спать, и бабушка стелила себе на ночь раскладушку, мама вдруг закричала из своей комнаты:
– Мама! Мама!
Бабушка помчалась к ней. Мама сидела на кровати, свесив ноги, в ночной ситцевой рубашке в цветочек, которую ее заставила надеть после душа бабушка. На помятом мамином лице пылал яркий румянец.
– Нужно поехать к бабе Шуре!
– Какой бабе Шуре?
– В деревне. Которая Олежку лечила, помнишь? Яйцом выкатывала.
– Зачем?
– Ну пусть заговорит, пусть нашепчет, отворожит – что они там делают.
– Господи боже мой, – всплеснула руками бабушка. – Да уже давно нет той бабы Шуры.
– Как нет?
– Да так: нет. В прошлом году умерла, сразу родственнички налетели из-за дома судиться, племянники какие-то троюродные, седьмая вода на киселе.
Бабушка еще что-то рассказывала про бабу Шуру, сетовала, что при жизни эти племянники ни разу у нее не бывали и хоть бы помогли чем, ведь последнее время она не вставала, отказали ноги, но мама уже не слушала.
Румянец на ее щеках потух, взгляд снова сделался стеклянным. Она легла, подобрала ноги к самому подбородку, натянула одеяло и повернулась к стенке.
На завтрак бабушка напекла оладий на кефире. Они плавали на сковородке в шипящем масле, пузырились и росли на глазах, и, хоть Олежка всегда предпочитал бабушкины блины, тонкие, кружевные, оладьям он страшно обрадовался. Бабушка поддевала их вилкой, скидывала со сковородки в глубокую миску на столе, и этот густой, разносящийся по квартире запах хоть немного рассеивал, отодвигал ту беспросветную тьму, в которой Олежка жил уже несколько дней.
– Давай-давай, поешь хорошо, а потом пойдем маму будить. – Бабушка отвернула тугую крышку на банке вишневого варенья. Она, видимо, забыла, что вишню ему было нельзя из-за аллергии, но напоминать об этом он не стал. – Сегодня много дел, отправлю вас в магазин.
– А ты же говорила, что надо дома сидеть.
– Говорила, а сейчас уже не говорю, – ответила бабушка. – Я же к вам доехала как-то – и ничего, танков не видела. Главное, вы дальше магазина не ходите, и сразу домой. Всем лучше, чем тут себя заживо хоронить…
Мама, конечно, вставать не захотела. Но бабушка буквально выпростала ее из-под одеяла и тут же сложила диван и убрала в шкаф постельное белье.
– Так, милая моя, больше нельзя лежать в лежку, – сказала она. – Сходите с Олежкой в магазин, купите чего-нибудь, а то в холодильнике хоть шаром покати. Хотя бы молока возьмите – овсянку сварить.
Мама долго сопротивлялась, порывалась снова лечь, но бабушка не дала. Она заставила маму умыться, одеться и позавтракать за столом, на кухне.
К полудню Олежка с мамой вышли наконец из дома и сели на трамвай – Олежка решил, что сначала нужно попытать счастья во вчерашнем универсаме, а на обратном пути зайти в молочный и хлебный, чтобы лишний раз не тащить сумки.
В конце вагона было одно свободное место, и Олежка усадил на него маму, а сам пошел покупать у водителя и компостировать билетик. Вернулся он оживленный.
– Мам, смотри, какой узор – елочка. – Он протянул ей изрешеченный билетик, где и правда дыроколом был выбит треугольник, похожий на елку. Мама вяло кивнула. Она сидела, прислонившись головой к стеклу, хотя Олежке это всегда делать запрещала, потому что стекло наверняка грязное, и безучастно смотрела в окно. Олежка скомкал билетик, спрятал в карман и подумал, что совсем недавно все было наоборот: он сидел, а мама покупала и компостировала билеты, а потом стояла рядом, оберегая его. Нет-нет, нельзя, нельзя об этом думать, а то опять накатит…
Они вышли из трамвая, перешли проезжую часть и двинулись к метро. Они шли медленно, держась за руки, как вчера по дороге в уборную, и Олежка поймал себя на мысли, что он уже не знает, кто кого ведет – мама его, как раньше, или он ее. Накрапывал дождик, а зонт они не взяли.
Вчера в вечерних новостях какие только страсти не передавали: чрезвычайное положение, комендантский час, танки. Ведущий, почти не отрывая глаз от бумажки, просил граждан проявить спокойствие и выдержку и не поддаваться на провокации отдельной группы лиц.
Олежка внимательно смотрел по сторонам и недоумевал. Здесь, на улице Профсоюзной, все было как обычно: не было ни военных, ни танков, мелькали зонты прохожих, а в здании магазина «Ткани» все так же, уже которую неделю, шел ремонт.
– Мам, ты слышала? По телевизору говорили, что в центре баррикады.
Мама безразлично пожала плечами.
– Не знаю, сынок. Вечно придумают что-то…
Около метро они увидели пару: молодых, веселых мужчину и женщину, которые прижимали к груди две продолговатые картонные коробки. У них были такие счастливые лица, что Олежке, уже опытному покупателю, стало любопытно.
– Что несете? Где брали?
– Сливы венгерские, компот. В универсаме, – с готовностью ответил мужчина, видимо, этот вопрос прохожие им задавали не первый раз.
– Венгерские? – вдруг воскликнула мама, будто проснулась. – Ой, я так их люблю!
– Там сейчас учет, но сказали, что после обеда еще выбросят, – отозвалась женщина.
– Пойдем, Олежка? – Мама посмотрела на него
Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 72