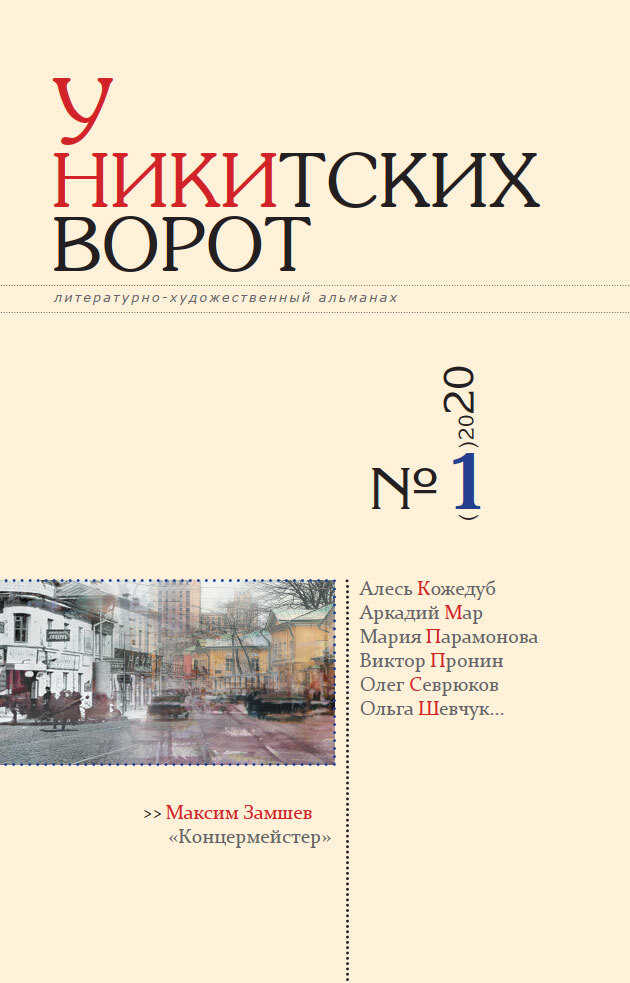class="p1">– По-твоему, и Пушкин жулик?.. И Толстой? И Гёте?
– Я о режиссёрах говорю, а не о писателях, не о художниках и композиторах… Хотя жулики есть везде. Мы в России живём. Тут у нас жуликов пруд пруди. Есть врачи-жулики, и ещё какие, уж мне поверь… И бухгалтеры-жулики, и шофёры, и программисты, и водопроводчики… О нефтяниках не говорю… В любой среде, на любой должности… Почему тогда среди режиссёров жуликов нет? Ведь вы все неконтролируемы. Всем нормальным людям Уголовный кодекс предназначен. Поймали на чём-то нехорошем, нечестном – отвечай. Одни режиссёры – делай, что хочешь, преступай, сколько хочешь, луди свою трактовку от фонаря – тебе слова не скажут, за волосы на крышу вытащат и ещё памятник поставят – а кому?.. Гению!.. Вы же все – гении. А на поверку – жулики.
С этим врачом мы больше об искусстве не разговаривали. Недавно, правда, случайно встретились, я у него спросил:
– Ну, где был? На какой последней премьере?
И вдруг получил многозначительный ответ:
– В театр больше не хожу. Надоело.
– Что так? – спросил я лукаво, чуть не подпрыгнув от удивления. – Неинтересно стало?
– Одно и то же. Насмотрелся.
– Понимаю.
– Да нет… – спохватился врач. – Театр я по-прежнему люблю. Но сейчас… сейчас решил – сделаем перерыв.
Я только усмехнулся про себя:
– Как бы… этот перерыв не затянулся!..
О. Р. Как сделать так, чтобы классика – смотрелась, чтобы не портить её пресловутой актуализацией, но чтобы при этом она не выглядела банальной и скучной?
М. Р. По поводу так называемой актуализации скажу просто: классика потому и классика, что всегда актуальна. Вот, скажем, спектакль «Убивец» по «Преступлению и наказанию» я заканчиваю болезненной грёзой Раскольникова, там звучат такие строки Достоевского о «трихинах, существах микроскопических, вселявшихся в тела людей»: «Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга; всякий думал, что в нём одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали друг друга. В городах целый день били в набат… Начались пожары, начался голод. Все и всё погибло». Прерву выразительную цитату, поскольку ясно, что выписанная автором апокалиптическая картина в равной мере «фэнтэзи» и документ, к примеру, того, что происходило в Украине, когда «Правый сектор» громил и кровавил своих противников. То есть тут всё актуально без всякой актуализации. Пророчества Достоевского воспринимаются нами, его потомками, как зловещее и точное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, адресованное в сегодняшний день, в котором сатанинство сплетено с бесовством и творит свою дьяволиаду.
Подобных примеров могу привести сотни. Но всякий раз театр должен не пропускать, не забалтывать самое важное для нас. Я стараюсь акцентировать такие моменты, поскольку считаю, что правильный акцент делает вещь более выразительной, и не стыжусь руководить восприятием зрителя, предлагая ему самому как бы ахнуть от образной точности авторского мышления. Может быть, это идёт от моего «шестидесятничества», которое рассчитывало на круги ассоциаций и разгадывание ребусов на языке Эзопа. Тут важно избегать прямолинейности и сохранять намёк, который часто бывает дороже и действенней, чем легко читаемая плакатная публицистичность.
Мы должны следовать авторскому духу, оглядываясь на буквы, – таково дело распознания классика, умеющего что-то скрывать и таить, и могущего, если надо, что-то сказать и в лоб, лишь бы его правильно поняли.
Но есть авторы, которые поначалу кажутся совершенно непостижимыми. Например, Кафка. Однако, войдя с головой в его стихию, я испытал великое чувство преодоления страха перед глубиной или глыбой. Спектакль «PRO Процесс» дался мне и актёрам не сразу, не с наскока, а путём полнейшего погружения в таинственные и зовущие к себе кафканские миры. Надо было стоически совместить своё «я» с одиноким и жертвенным «я» главного героя, некоего г-на К. Иначе ничего не получилось бы. Но и тут обошлось без прямой актуализации, ибо – зачем она, если каждый сидящий в зале чувствует: невиновный у нас беззащитен и никогда никому ничего не докажет. В нашей стране, познавшей Большой террор и Гулаг, в этом плане ничего не надо дополнительно объяснять…
Когда-то давно, в середине тридцатых годов – в связи с пушкинским юбилеем, во МХАТе Владимир Иванович Немирович-Данченко решил ставить «Бориса Годунова». Представляете исторический контекст?.. В стране Большой террор, а они там у себя на великой сцене затеяли нечто про убийц – царя, Самозванца и про то, как «народ безмолвствует». Замысел оказался неосуществлённым, хотя работали года три и, кажется, как раз подошли к «генералкам» в середине 37-го года, того самого… Неоконченности способствовали также привлечение к «чёрной работе» С. Э. Радлова и H. Н. Литовцевой (чтение стиха, разборы сцен, педагогика), которые обязаны были «сдавать» куратору свой труд по частям. Сомнительная, чисто мхатовская практика, болезненная и чреватая конфликтами коллективная режиссура (нонсенс изначальный).
И вот на репетицию приходит мэтр, смотрит, слушает и вдруг заявляет: «Для того, чтобы поставить этот спектакль, надо круто повернуть руль и скрестить Пушкина с Художественным театром».
И дальше началось. Никто не понимал, что значит «повернуть руль», да ещё «круто», и что такое «скрестить». Ведь Пушкин утверждал, что «драма родилась на площади». И что будет, когда выяснится, что театр как таковой «исключает правдоподобие».
В стенах МХАТа это звучало, так сказать, поперёк всему, всей истории МХАТа и его основной концепции реалистического искусства. А тут вдруг приходит один из двух корифеев и с порога провозглашает: «Всё это для чтения с эстрады», «это старый театр», «мы должны решить очень важный вопрос: работать ли нам по-новому или по нашей обычной линии». И – самое удивительное: «Если это новое будет интереснее Художественного театра, я готов принять его».
Тут же честный Радлов признал: «Образы сейчас ещё не совсем живые, накрахмаленные».
О чём говорит этот опыт?
О том, что новое есть живое. Что «перевоплощение Художественного театра в Пушкина», по выражению Исаака Рабиновича, сценографа спектакля, возможно. Что «подъёмность» Качалова мешает «простоте» и т. д., и т. п. Голая декламация или переживание?
Всё это не праздные вопросы конкретной режиссуры конкретного автора. Все поиски направлены к автору, его поэтике, стилю, деталям, музыке слов…
И тут, простите, не обойтись без добавлений. Моя режиссёрская фантазия должна заработать в русле, проложенном автором,