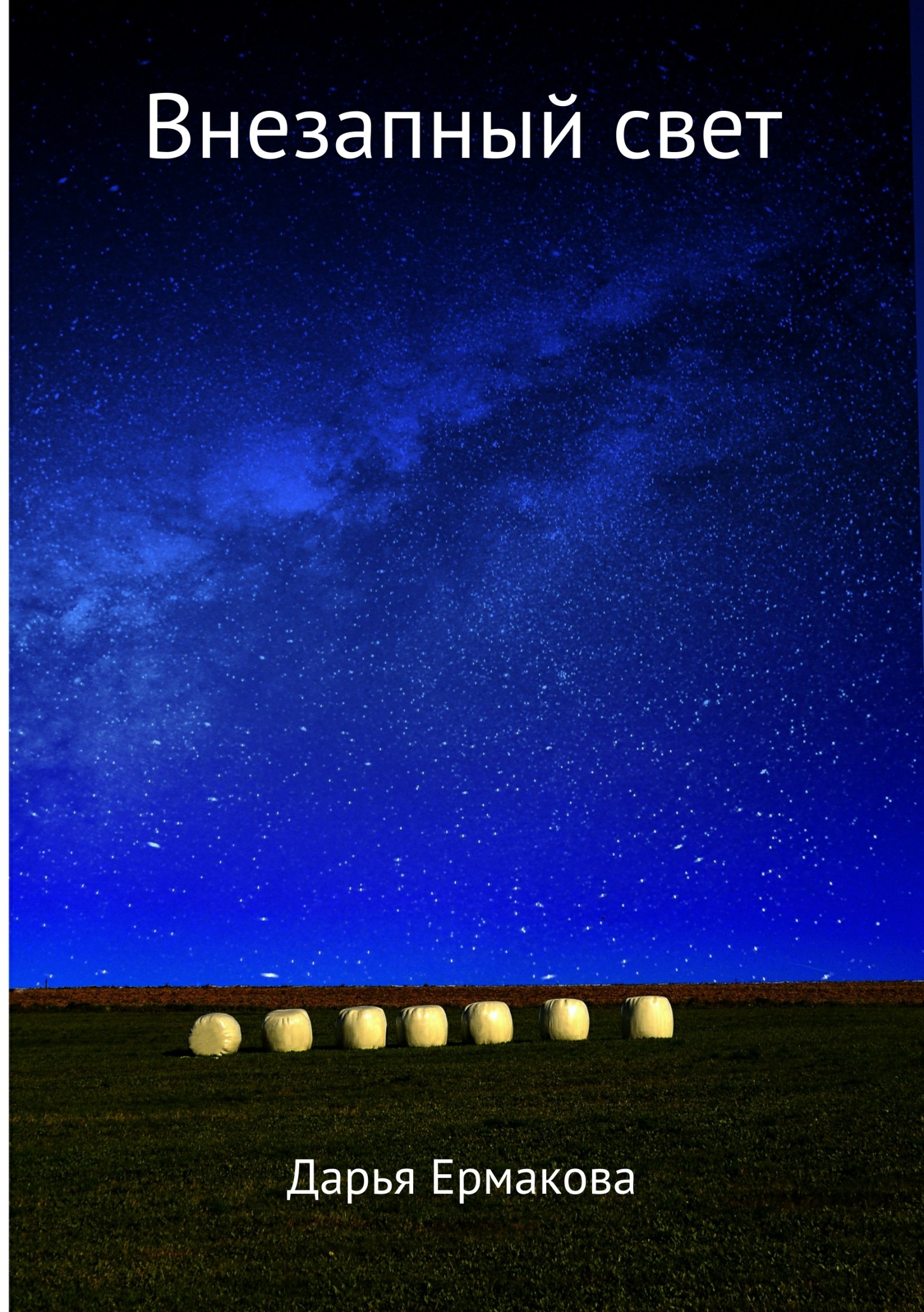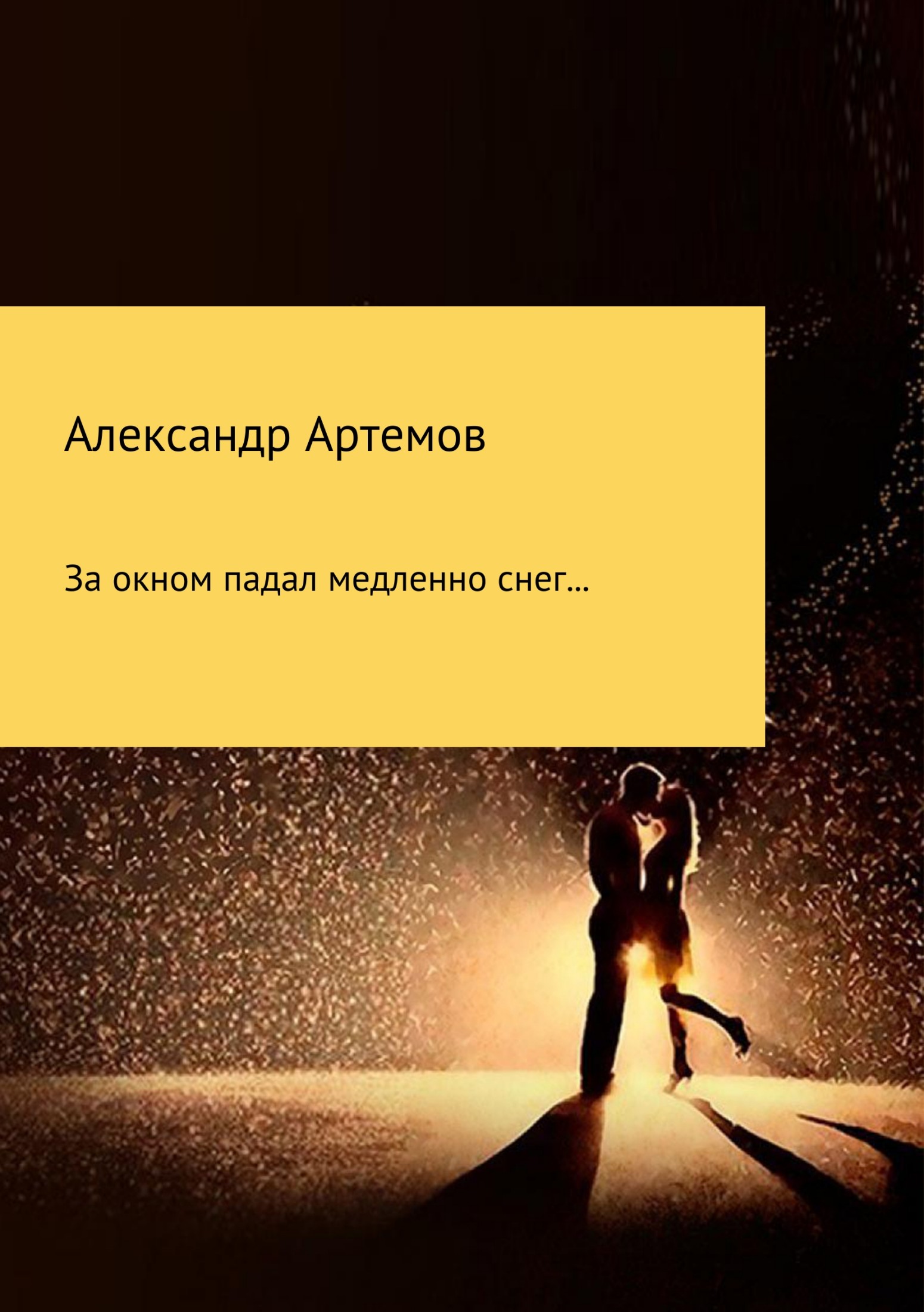В душе читателя рождается чувство восхищения такими людьми, когда он узнает о готовности парторга отдать своему юному товарищу Хомуткову самоспасатель (Хомутков оставил свой под лавой, Чепель и Тихоничкин свои уже использовали). Ирония Комарникова по отношению к самому себе в такой реальной, хотя и исключительной, ситуации естественна, она оправдана честным, мужественным характером героя, которому даже мгновенно промелькнувшая мысль об использовании самоспасателя для себя показалась кощунственной. Кажется, только так, усмехаясь над минутной своей слабостью, и может мыслить бригадир, волею судеб призванный, как капитан на корабле, отвечать за каждого.
«Да, да, — поджал губы в язвительной усмешке Егор Филиппович, — этим самоспасателем должны воспользоваться вы, товарищ Комарников. Вы — фронтовик, отмечены боевыми правительственными наградами, знатный горняк, бригадир, удостоены многих орденов и медалей за доблестный шахтерский труд, кавалер знака «Шахтерская слава», партгрупорг крупнейшего участка. Ваша жизнь настолько ценна, что в первую очередь вы обязаны позаботиться о спасении собственной шкуры!»
Это уже диалектика чувств, постигаемая автором при помощи внутреннего монолога героя, анализа его сложных переживаний. И герой действительно, проверяя и оценивая каждый свой шаг нравственными категориями, преодолевает в себе душевные противоречия и достигает в час смертельной опасности той высокой степени стойкости и мужества, благородства и самоотречения, которыми должен обладать настоящий коммунист. («Девятнадцать лет, — считай, не жил. Такому умирать, наверно, страшно… А кому не страшно? Передам ему…»)
Знакомясь с жизнью таких людей, как Комарников, мы отчетливо видим, что героическое прочно вошло в повседневную жизнь каждого советского труженика. Парторг очутился вместе со своими товарищами в завале. Казалось, выхода нет: они заживо погребены, силы покидают их. Но и в самые страшные минуты их не оставляет надежда на спасение, ибо они знают, что к ним в любом случае будут пробиваться горноспасательные команды — таков основной гуманистический закон советского товарищества. Пряча от товарищей свою боль (у него сломана нога), Комарников продолжает морально поддерживать своих друзей. И когда появилась реальная надежда на спасение, он прежде всего подумал о тех, кто еще оставался в опасности. Получив возможность связаться со спасателями, Комарников озабочен не своею судьбой.
«Передайте, — крупно вывел он, — кто, кроме нас, и где застигнут?»
И далее:
«Только написав этот, не дававший ему покоя вопрос, Комарников начал всматриваться в графы бланка. Перечислив фамилии, указав место нахождения и упомянув, что водой обеспечены, а полного голодания удалось избежать, Егор Филиппович вдруг заколебался: «Сообщить о своей беде или нет? Напишешь — начнут нажимать, а в спешке… Мало ли что может произойти в спешке! Воздержусь. Авось, выдержу».
И больше ничего не надо объяснять. Вот она правда коммуниста, который, находясь несколько суток между жизнью и смертью, прежде всего беспокоится о судьбе товарищей!
Книга В. Мухина «Внезапный выброс», изображающая героев в активном преодолении страданий, приобретает особенную воспитательную силу, так как помогает читателю наглядно убедиться в действенности коммунистических идеалов.
Если бы автор разработал только ту сюжетную линию романа, которая связана с судьбой переживших аварию шахтеров, то и тогда его произведение представляло бы несомненный интерес. Но он поставил перед собой более широкую задачу: совместить проблему героической нравственности с освещением тех производственных коллизий, которые сегодня требуют углубленного их осмысления. Творчески осваивая и подчиняя себе новейшую технику, люди ищут пути, ведущие к возможно более полной безопасности при все возрастающем уровне производства.
Председатель правительственной комиссии по расследованию причин аварии Стеблюк, выражая общее мнение, говорит:
«Горная промышленность имеет надежное научно-техническое обеспечение и мы уже сегодня можем исключить подземные пожары и взрывы из числа явлений, угрожающих жизни шахтеров и сохранности горных предприятий».
Соглашаясь с некоторыми доводами ученых, работающих над проблемами техники безопасности в горнопроходческом деле, Стеблюк тем не менее резко им возражает, видя в выдвигаемых ими гипотезах отсутствие широты взгляда, смелости инженерной мысли. И отнюдь не умозрительны наблюдения его над новаторским трудом исследователей космоса, преодолевших огромные трудности для того, чтобы проникнуть в тайны мирового пространства.
В свете этих научных споров приобретает исключительное значение то, что совершает горноспасательный отряд во главе с потомственным шахтером, горным техником Тригуновым, чья жизнь и деятельность связаны с постоянным риском. Образ Тригунова, решительного и одновременно творческого человека, как и его подчиненных — Манича, Репьева, Гришанова, — нарисован в романе выпукло, впечатляюще. Автор дает нам возможность прежде всего убедиться в том, что его герой обладает трезвым аналитическим умом, опирающимся на богатейшую эрудицию, позволяющую ему не только трезво оценить обстановку, но и предвидеть объем и направления деятельности по спасению попавших в беду товарищей. Обладая уникальными знаниями, огромной личной культурой, этот человек не только организует и вдохновляет своих сотрудников, он сам служит для них примером выдержки, мужества и самоотверженности.
И совершенно естественно, что на первый план повествования автор выдвигает не столько деловую характеристику Тригунова, сколько гуманистический смысл его деятельности.
«Опасно? Да, очень. Но ты — горноспасатель. Горноспасатель! Прежде чем стать им, ты обещал: «…не щадить ни сил, ни жизни самой для спасения погибающих». А другого способа спасти их, кроме того, который ты выбрал, — нет».
Слияние общественно-производственного и нравственно-психологического конфликтов наиболее органично проявилось в судьбе главного инженера Колыбенко, неизбежно несущего ответственность за несчастный случай. «Судят» Колыбенко правительственная комиссия, администрация комбината и главка, непосредственные начальники и товарищи по работе, «судят» шахтеры и родственники оказавшихся в завале и в первую очередь судит он себя сам… Есть судьи и прокуроры, свидетели и адвокаты. Только в отличие от реального судебного процесса обвиняемый не сидит на скамье, а действует, возглавляет руководство работами по ликвидации аварии: прежде чем услышать свой приговор, он обязан спасти людей! Вот здесь-то и завязывается узел всех причин а следствий, как видимых, так и невидимых. И нужно сказать, завязался крепко. Перед глазами читателя в форме воспоминаний проходит вся жизнь героя. Упрекнуть его не в чем: только труд — честный и творческий. Все его мечты о счастье связаны были после окончания института с радостью и тревогой за осуществление собственных инженерных идей, направленных на облегчение шахтерской судьбы. И когда преуспевающий Осыка посоветовал ему однажды «рубликом выковыривать уголек», Колыбенко, преодолевая к нему неприязнь, ответил:
— Честного шахтера приписки оскорбляют. Не нужны ему подачки всяческие… Да еще за счет государства.
Но мало, по-видимому, по две смены не вылезать из шахты, месяцами не иметь выходных, спать пять-шесть часов, в сутки, мало быть изобретательным и трудолюбивым инженером — важно думать о людях, требовать от них исполнения ими трудового долга. Уступка бывшему своему однокашнику — начальнику участка «Гарный» Авилину — дорого обошлась Колыбенко,