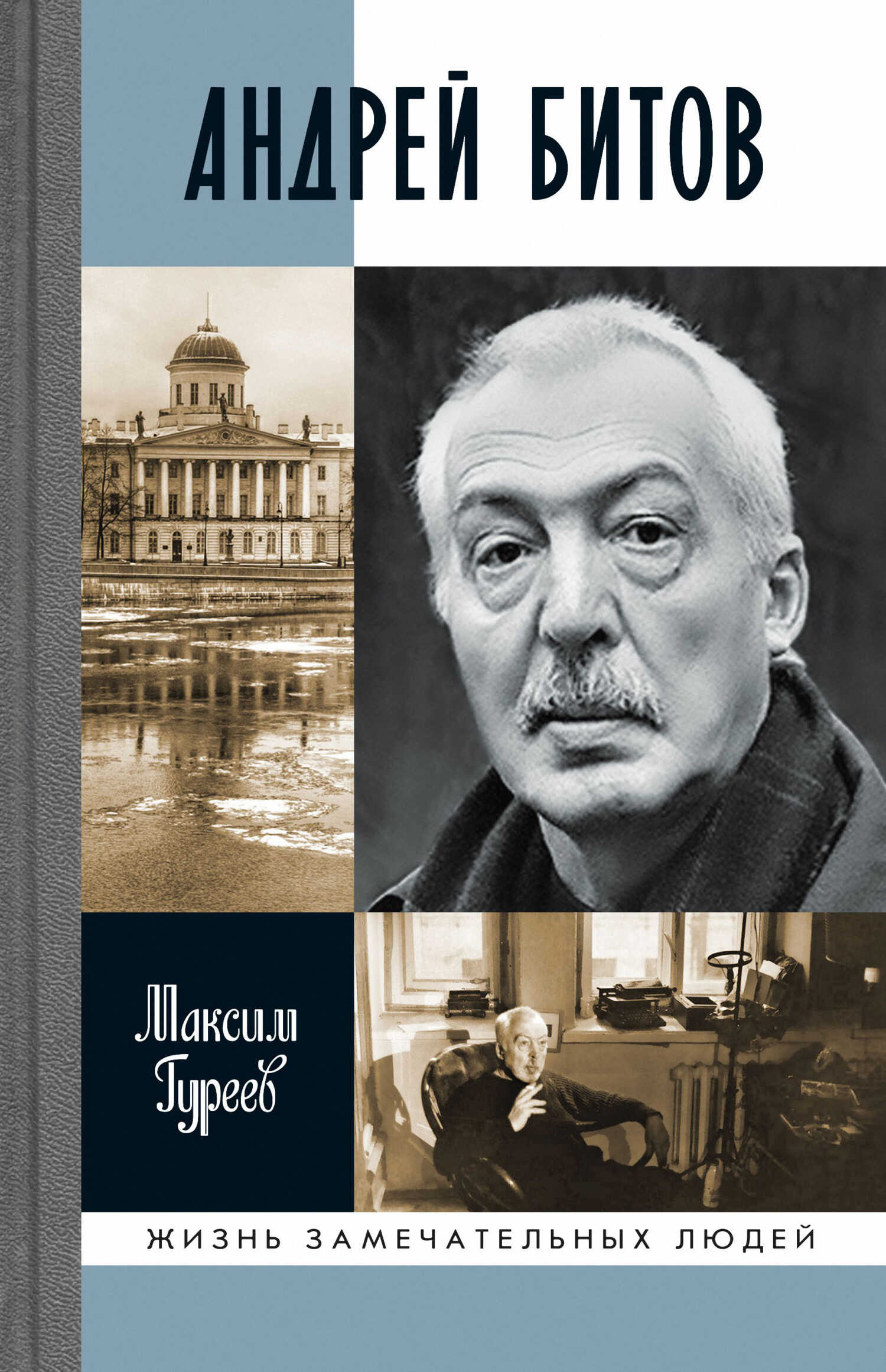в июне 1940 года, когда отправился в скитания по Крыму. Ему — двадцать один, ей — тридцать. Увидел и по-юношески неистово влюбился. Вспоминал мгновение их встречи в Коктебеле у Дома Волошина: «У незнакомки были светло-льняные волосы, показавшиеся мне выгоревшими, но лицо её ещё не тронул южный загар, и, значит, она привезла их такими с севера. И уж, конечно, с севера привезла она свои глаза, тоже лён, но не жёлтый, голубой. Впрочем, это было впечатлением лишь от цвета глаз, а так они были прозрачны до самого дна. Взгляд их был прям, обнажён и бесстрашен до отчаяния».
Что тут можно сказать? После этих слов… Разве что как в старых романах: с этой минуты они полюбили друг друга.
Наровчатов, правда, уточнит: «Знакомство, начавшееся под репродуктором, сообщавшим: “Немецкие войска вошли в Париж”».
Она — уже сложившийся поэт и женщина с прошлым. Первая жена Бориса Корнилова, расстрелянного НКВД в 1938 году — «за участие в заговоре против Кирова», и снова замужем — за литературоведом Николаем Молчановым. Из прошлого: в том же 1938 году была арестована — по «делу Авербаха». Известно, как добивались «признания» в камерах «Шпалерки» — внутренней тюрьмы «Большого дома». Ольга была беременна от Николая Молчанова, на шестом месяце, и во время допросов потеряла ребёнка. Попала в тюремный лазарет. После лазарета её отпустили.
До встречи с Наровчатовым Берггольц пережила смерть дочерей: годовалой Майи (1934) и Ирины (1936), родившейся в первом браке от поэта Бориса Корнилова.
Двух детей схоронила
Я на воле сама.
Третью дочь погубила
До рожденья — тюрьма…
Больше она не родит. Каждая новая беременность, как будто по чудовищному коду, будет прерываться на шестом месяце выкидышем. После освобождения в 1939 году она записала в дневнике: «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в неё, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!»
Сергей Наровчатов летом 1940 года в Коктебеле встретил её опустошённой, с вытоптанной душой.
Наровчатов: «Зимой 1942 года из-под Ливен я послал на удачу письмо в блокированный Ленинград. В него я вложил стихи, написанные незадолго перед тем.
Запоминал над деревнями пламя
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.
Всё это было о действительно пережитом нами, когда мы вместе с Михаилом Лукониным выходили из окружения брянскими лесами. Письмо пересекло блокаду — чудо, но это так! — и я получил ответ, положивший начало переписке».
«Действ. армия. 25/IV — 42 г.
Оленька!
Писал тебе. Получила ли ты мою открытку? Я седьмой месяц на фронте. Видел столько, что на 20 лет вперёд хватит. Вот один месяц из прожитых мной:
Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожжённых сёл, казнённых городов,
Сквозь чёрный плен земли своей родимой,
Завещанной от дедов и отцов.
Запоминал: над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.
Запоминал: как грабили, как били,
Глумились как, громили второпях,
Как наши семьи в рабство уводили,
И наши книги жгли на площадях.
И был разор.
И все бесчинства метил
Паучий извивающийся знак.
И виселицы высились.
И дети
Повешенных старели на глазах.
Старухи застывали на порогах
И вглядывались, тёмны и строги, —
Российские исконные дороги
Немецкие топтали сапоги.
В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.
Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати!
Свете мой безмерный!
Которой местью мстить мне за тебя?!
Всё написанное здесь — сам видел и пережил. Немцев, мало сказать — ненавижу, когда думаю или говорю о них, пятки трясутся от злобы. Я их трижды ненавижу — как русский, как коммунист и как человек.
Вместе со мной с первых дней войны мой старый товарищ — Михаил Луконин, человек смелости безупречной и прекрасного и возвышенного образа мыслей, как выразились бы наши прадеды. Из серьёзных боёв, которые я прошёл, назову бои под Брянском и под Ельцом.
Тебя я помню и люблю неизменно. Помню тебя —
Где солнце в полнеба, где воздух, как брага,
Где врезались в солнце зубцы Кара-Дага,
Где море легендой Гомеровой брошено
Ковром киммерийским у дома Волошина.
Милое твоё лицо и сейчас передо мной. Сколько я хорошего у тебя взял, Оленька!
Большая война идёт. Россию отстаиваем, коммунизм утверждаем… Мы победим, во что бы то ни стало. В войне с саламандрами победят люди. Тогда мы снова вернёмся в свои освещённые праздничные города и… тогда мы встретимся, Оленька, и многое-премногое расскажем друг другу.
Пиши мне. Я знаю, как трудно вам в осаждённом городе. Но ленинградцы становятся легендой, и о вас уже сейчас слагают песни. Я верю и знаю свою Ольгу. Оставайся такой же, какой я тебя знал, моя чудесная. Целую тебя горячо.
Сергей».
В это время, в блокированном Ленинграде, Берггольц писала поэму «Февральский дневник». По всей вероятности, поэма и то, что Берггольц той же весной 1942 года привезла рукопись поэмы в Москву и передала её родителям Наровчатова, опасаясь, что из Ленинграда объёмное письмо до адресата не дойдёт, стало ответом и началом того трогательного почтового романа, который будет длиться тридцать лет. И для Него и для Неё письма друг к другу станут той тайной свободой и параллельной жизнью, в которой они, окружённые киммерийскими скалами и водами, будут вечно юны, здоровы, красивы и полны надежд на прекрасное будущее.
«29/IV-42 г.
Оленька!
Твоё письмо потрясло меня. Земной поклон тебе и твоему Городу. Мне трудно писать — так ошеломлён тобой. Знаешь ли сама — что ты? Ты снова уехала туда. Я руку закусил, когда прочёл, в глазах темно стало. И всё-таки это правильно, справедливо. Красивая ты моя!
Сейчас что ни день — то лист из книги Бытия. Всю меру древнего горя испытали мы и прибавили к нему своё. Я проходил, скрипя зубами, мимо сожжённых сёл, казнённых городов… Здесь нет ни одной строки заживо не виденной, не пережитой. В октябре прошлого я вспоминал себя в предках времён “Слова” и набега Батыева. В селе Хатунь, где немцы перебили всё население, 312 человек, от грудных младенцев до стариков только за то, что они