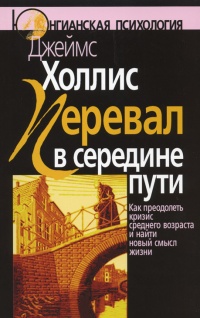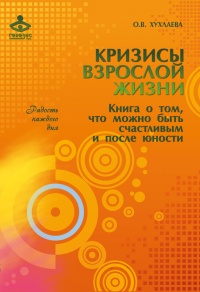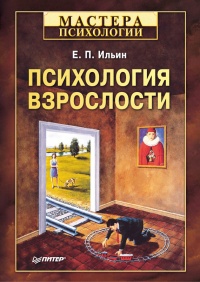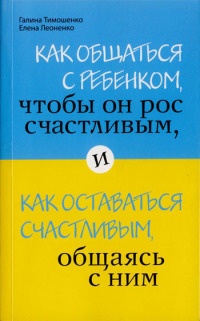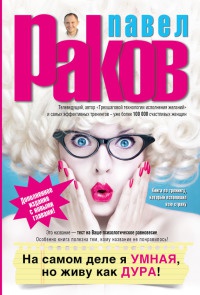…Вот, кстати, тогда у меня и появилось это кольцо. О, это отдельная история! Я очень люблю ее рассказывать. В конце 60-х, мне уже тогда к пятидесяти было, я поехала в командировку. Дело было поздней осенью, в дождь, поезд был ночной, ехать долго, и мы разговорились с пожилой, лет на двадцать старше меня, попутчицей-армянкой. Было видно, что она не очень здорова, утомлена дорогой, но весь ее облик хранил в себе следы былой красоты, свидетельствовал о гордости, независимости, глубоком внутреннем достоинстве. Она и в старости была красавица необыкновенная: большие темные глаза, одухотворенное лицо, серебристые пряди в густых волосах, пышная прическа короной вокруг головы, гордая осанка, благородный профиль, необыкновенные кольца на длинных аристократических пальцах и тонкие серебряные браслеты на запястьях.
Сначала она не очень охотно откликалась на мои попытки завязать разговор, делая длинные интеллигентные паузы, в надежде, что общение не продолжится, но потом слово за слово – и мы все-таки разговорились. Знаете, как в поездах бывает – сама обстановка располагает к откровенности. И вот так удивительно совпало, что наши с ней истории жизни оказались похожи как две капли воды. Ее детство прошло в маленьком городке у моря, и мое там же; она была «из дворян», и мои предки – из польской шляхты; она рано потеряла родителей и воспитывалась бабушкой, и я тоже; она рано, почти сразу после школы, вышла замуж за человека на четверть века старше ее, и я; у нее было двое сыновей, с которыми никогда не ладились отношения, и у меня – то же самое, наших детей даже звали одинаково (вот и не верь в совпадения!); она перенесла тяжелую операцию по женской части, и я; она недавно схоронила младшего внука, и я; она искала счастья в профессии, в работе, уделяя семье намного меньше внимания, чем требовалось, и я; она по большой любви ушла от мужа, бросив и сыновей, и обеспеченный быт, презрев социальное осуждение ради любимого человека, и я переживала как раз тогда такую же любовную историю.
Мы проговорили весь вечер и всю ночь, поражаясь странным, почти дословным совпадениям двух наших жизней, и на прощание она сняла с пальца и протянула мне это старинное серебряное кольцо – на память о ней и о том, что мне еще только предстоит пережить и узнать, а она уже пережила и знает, а потому хочет защитить меня от возможных несчастий. Не знаю, что вызвало этот порыв, я, конечно, не хотела брать такую необычную и красивую старинную вещь, но она буквально надела мне его на палец и сошла с поезда, не доезжая до конечной станции. С тех пор кольцо у меня, я ношу его, не снимая, и никогда с ним не расстаюсь, оно, наверное, уже почти вросло в палец. Мне кажется, оно – заговоренное и уже больше тридцати лет хранит меня от чего-то ужасного, что могло бы произойти со мной.
Галина М., 81 годПомимо событий и вещей, можно говорить о «персонажности» автобиографического текста, которую чаще всего составляют:
1) родственники (родители, прародители, «большая семья»), предки – они отождествляются с группой лиц-«защитников»;
2) учителя, наставники, просветители, тренеры, гуру;
3) близкие и любимые люди – супруги, друзья, лица, к которым испытываются позитивные чувства, в том числе чувство благодарности;
4) дарители, помощники, пособники, сотрудники, единомышленники, посредники, соучастники, сделавшие, по мнению рассказчика, его именно таким, каким его знают сегодня;
5) соперники, враги, недоброжелатели, обманщики, предатели, вредители, завистники, противники, преследователи, антагонисты, наказывающие рассказчика;
6) «незабываемые» – те, к кому рассказчик испытывает сильные чувства, несмотря на то что они ушли, бросили, покинули, не испытывали взаимных чувств и даже отвергли рассказчика;
7) «образцы/модели» – реальные или виртуальные и выдуманные персонажи, служащие образцами для идентификации или являющиеся носителями проекционных «образов Я», желаемых качеств личности, желаемой судьбы;
8) «провокаторы» – лица, подтолкнувшие рассказчика в ситуации выбора к сложному и нежеланному жизненному пути, который «оказался судьбой», стал успешным; лица, которые «подзуживают» к совершению действий и поступков, лежащих как бы вне логики привычного поведения;
9) символические фигуры – случайные, как правило, незнакомые, лица, ситуативно, единожды давшие верный совет, выручившие в нужный момент, сказавшие заветное слово, подвернувшиеся в трудный момент и пр.;
10) исповедники, доверители, наперсники, хранители конфиденциальной информации;
11) спасители, освободители, «берегини», «ангелы-хранители»;
12) прототипы, прецедентные фигуры – как правило, книжные или кинематографические персонажи, чье поведение и выборы служат некоей виртуальной моделью для рассказчика в ситуациях выбора, неопределенности, риска и пр. (моральные образцы, культурные герои, символы свободы, символы красоты и т. д.);