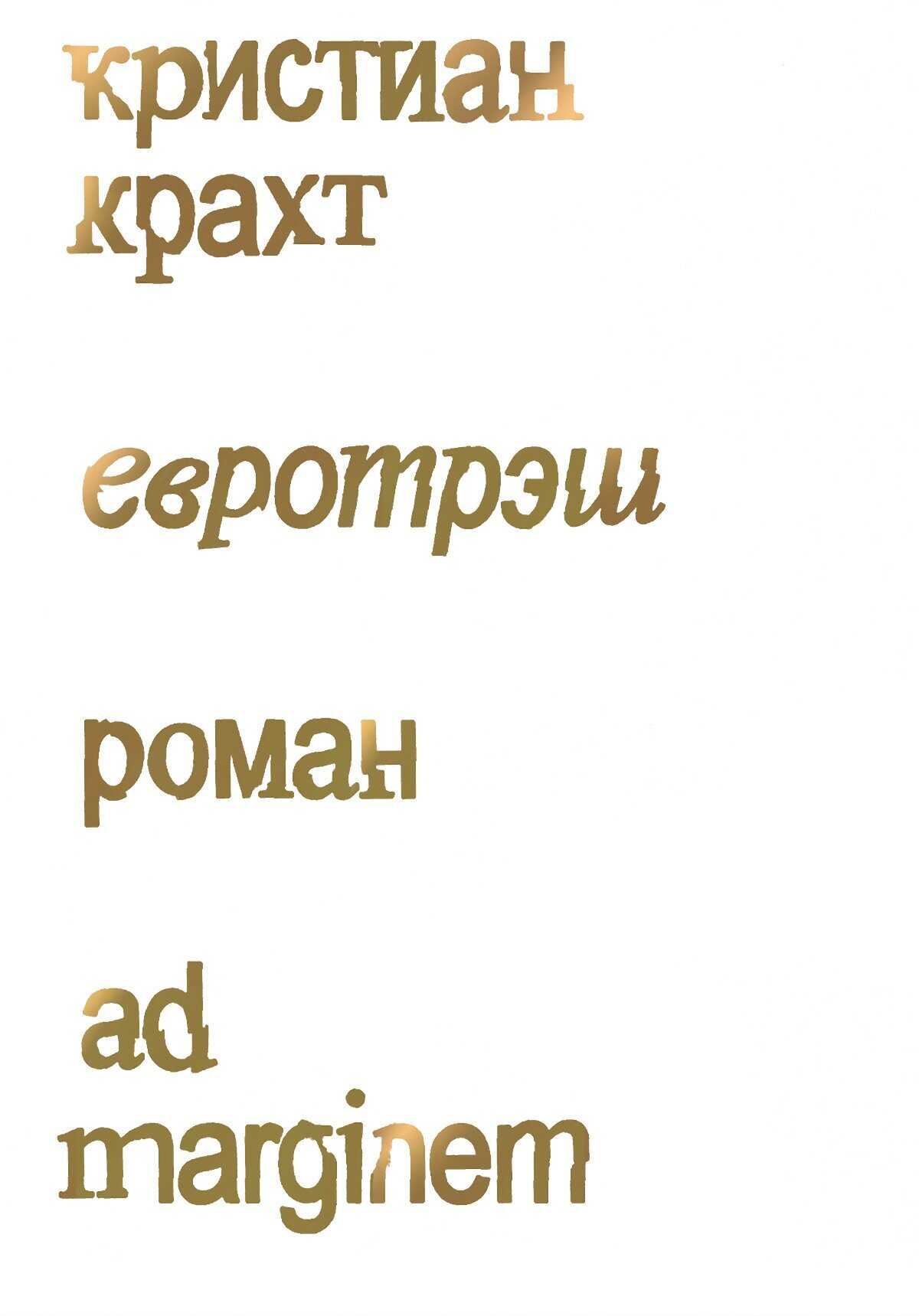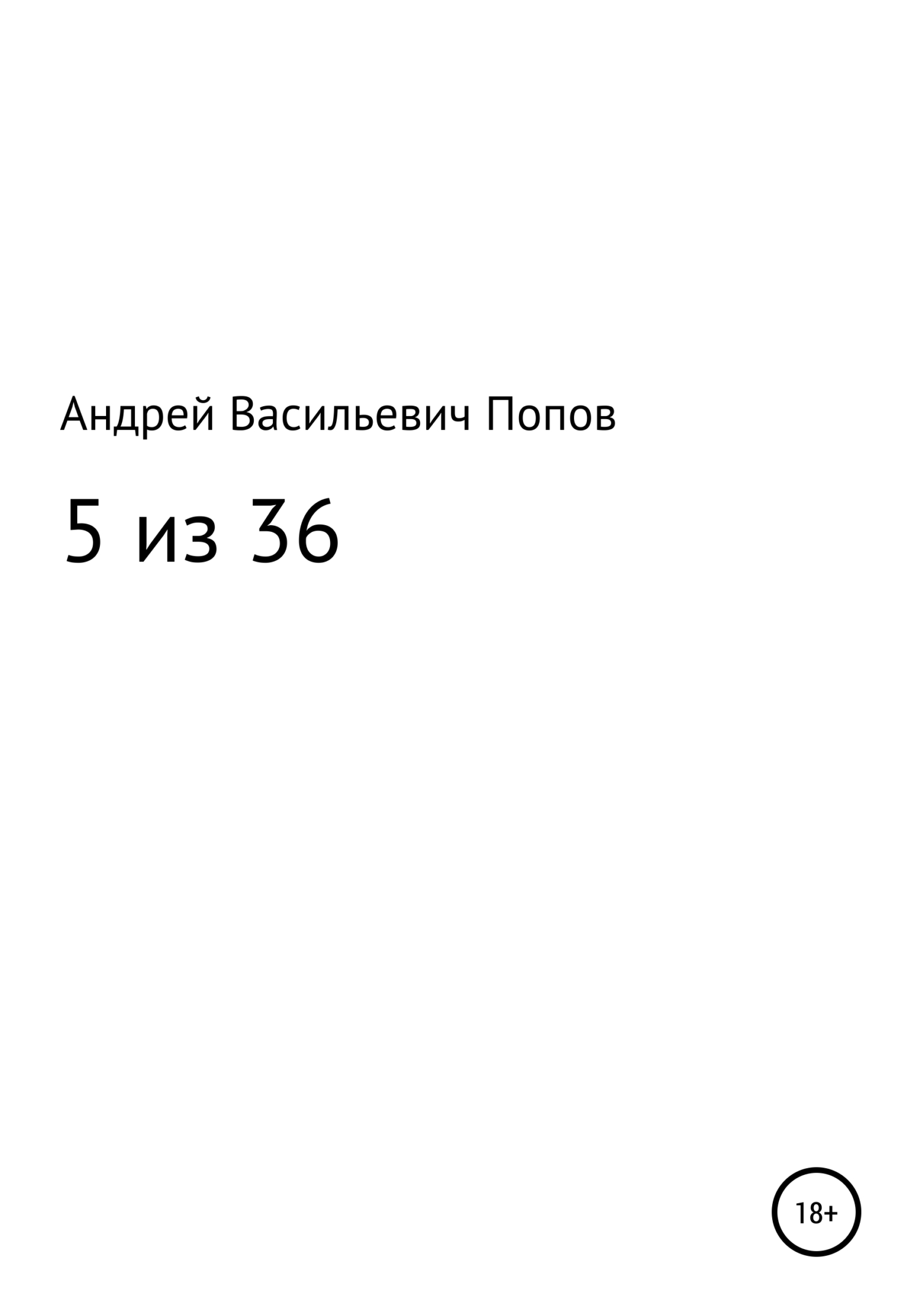все называли ее по-еврейски «Кешенебод» — Карманной баней. Я любил ходить туда с дедушкой. Бабушка укладывала ему сумочку с чистым бельем, чтобы переодеться после мытья, а мама собирала такую же сумочку мне. Вот эти отдельные сборы в баню и отдельные сумочки — дедушкина и моя — сразу делали меня старше и придавали ощущение самостоятельной личности, или, как говорила бабушка, «самостийца».
Походы в баню становились для меня тем же, что и походы в кино. Сквозь влажный пар, насыщенный человеческим потом и известью с облупившихся стен, я открывал для себя вещи, которые раньше никогда не видел и про которые ничего не слышал — ни в кино, ни на детских концертах, ни даже в цирке. И в первую очередь именно там раскрылась мне великая тайна — где спрятано принципиальное различие между евреями и неевреями, различие, никак не зависевшее от царившего в бане социального равенства.
В тесноте, где листку с березового веника некуда было упасть, кроме как прилепиться к чьей-нибудь заднице, двигались мелкими шажками намыленные фигуры, согнувшись и вцепившись руками в шайки, чтобы вода из них, не дай бог, не расплескалась по пути к длинной каменной скамье. В первые минуты новоприбывшие стыдливо бродили среди раскрасневшихся тел, прикрывая себя спереди персональной шайкой, как щитом, и высматривая на скамье свободное место. Все вокруг источало звуки: жестяные шайки стучали и звенели под напором водных струй, с ревом вырывавшихся из огромных чугунных кранов. Внезапно кто-нибудь резким движением поднимал наполненную шайку над головой и переворачивал ее на себя, так что вода с силой обрушивалась на каменный пол и с грохотом разбивалась на тысячи осколков. Мыльная пена растекалась вокруг босых ног, и становилось еще более скользко. Но никому не было до этого никакого дела, потому что каждый самозабвенно мылил себя мочалкой — ну, разве только если сосед не попросил: «Будь добр, потри-ка мне спину!»
В бане у некоторых потаенных талантов прорезался порой вокальный дар, и среди кряхтенья, вздохов и стонов вдруг раздавалась высокая канторская трель. Недостатка в ценителях подобного «канторского искусства» среди моющихся никогда не наблюдалось: «Голосок… — звучало тут же. — Как у голодного цыгана в животе бурчит!»
Наш сосед, Лейзер-стекольщик, обычно буквально вырастал из-под земли — можно было подумать, что он прячется от кого-то, только неясно, от кого — то ли от тех, кто за ним гонится, то ли от тех, кто усердно моется. Как и все новоприбывшие, Лейзер-стекольщик стыдливо прикрывал свое мужское достоинство, но не шайкой — ее вместе с березовым веничком он держал под мышкой, — а светло-зеленой шляпой…
— Эй, мужик!.. — окликнул меня чернокожий бродяга и тем самым сразу перенес из нашей Карманной бани в парилку нью-йоркской подземки. Он стянул с головы панаму и несколько раз махнул ею перед собой, отгоняя жару. — Что ты там крутишься у самого края… Дуй сюда, твой поезд пока что в пути…
Еще минуту назад сосредоточенно раскладывавший пасьянс, теперь бомж быстро и ловко сгреб карты со скамейки своими широкими ладонями. Он кивнул мне на освободившееся место и прибавил утрированно высоким голосом: «Pleas-s-se!»
Мгновение я колебался по поводу столь неожиданного приглашения, а затем шагнул к нему. Он щелкнул двумя пальцами, и между ними появилась карта.
— Твоя масть… Червовый валет! — он рассмеялся, как будто своей улыбкой хотел продемонстрировать, какие у него красивые и белые зубы, а затем спросил: — Очко? Тридцать одно? Джокер? А может, еврейское око? Трик-трак?..
Наверное, он назвал бы еще с десяток карточных игр, но я остановил его:
— Нет… — и тоже рассмеялся, хотя моими зубами гордиться никак не приходилось. — Я уже все забыл… Много лет не играл в карты.
— Да, карты — как музыкальные инструменты. Хочешь хорошо играть — нужно каждый день репетировать, так? Тебе полагается об этом знать, ты ведь когда-то играл на скрипке.
Я уселся возле него. Спросил:
— Откуда ты знаешь, что я играл на скрипке?
Он снова рассмеялся и охотно объяснил:
— У тебя под левой щекой пятно натерто — как у всех скрипачей. Но его уже почти не видно — вот я и понял, что ты давненько не играл на своей скрипочке…
— Да, правда… Уже много лет не играл… Пошел другим путем.
Он задумался, пощипывая бородку и по-домашнему поглаживая живот, а затем изрек:
— Понимаю, ты иммигрант… Таков теперь твой путь… Я тоже иммигрант, который никогда не покидал свою страну…
Разумеется, он заметил мое удивление и пояснил:
— Я перебрался оттуда, с Верхнего города — сюда. Я оттуда сбежал, потому что не мог больше выдержать… Здесь мне хорошо… Я, может быть, покажу тебе как-нибудь свою вотчину и познакомлю с некоторыми из ее обитателей… — бомж произнес это так, точно был уверен, что сегодняшняя наша встреча не станет последней.
Мне следовало, конечно, найти уважительную причину и отойти от этого парня. Его речь, его поведение… И вообще — что у нас могло быть общего?.. Нет, это начинало выглядеть слишком странно. Впрочем, именно его странность и удерживала меня от того, чтобы сказать: «Good bye». И я слушал дальше.
— Понимаю… У тебя совсем другое дело: тебя из твоей страны изгнали… Интересно, вас все время откуда-то изгоняют… — он неожиданно перешел с единственного числа на множественное. Его указательный палец взметнулся вверх, как указание, что самое важное последует дальше: — А если вас уже целых две тысячи лет гонят, так, вероятно, есть за что, а?
«Ну, здрасте, — подумал я, — вот тебе и Америка, свободная „золотая страна“… Там, на старой родине, любой забулдыга мог тебя облаять из-за твоего излишне рельефного носа, а тут какой-то бомж — прямо философ с готовой теорией еврейского изгнания…»
Похоже, на моем лице было написано все, что я думаю. Очевидно, бомж все это «прочитал» и сделал собственное умозаключение:
— Вижу, мои слова тебя обидели… Ничего, нас, черных, тоже частенько обижают. А знаешь, почему? Потому, что и евреи, и черные остаются пасынками на обочине человеческой истории. А пасынков, как известно, обмануть или оскорбить — мицва.
Он ловко перетасовал карты, словно фокусник или опытный картежник, а затем добавил:
— Более того, при всей нашей несхожести у черных и у евреев одна судьба: в прошлом мы месили глину рабства и никогда не переставали мечтать о свободе… Как же мир может нам это простить?
Я молчал, оставив его вопрос без ответа. Но негр, похоже, не очень-то и нуждался в моих ответах. Во мне он ощутил хорошего собеседника, умеющего молчать и слушать.
— Давай знакомиться.