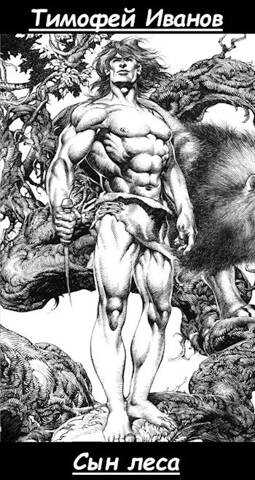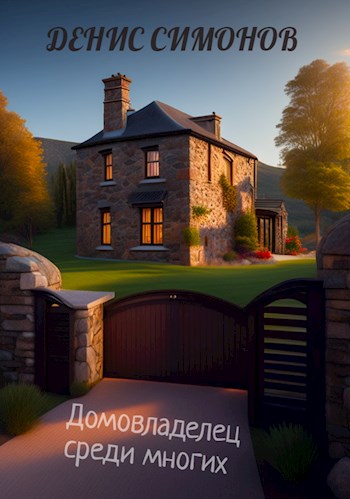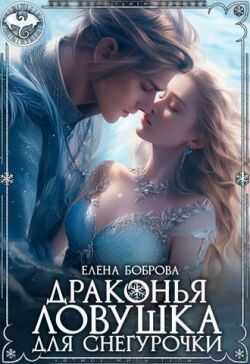отроги водораздельного хребта между Хорским и Бикинским бассейнами.
На кручах курчавится дубняк вперемежку с черной березой, кленом и липой. Среди зарослей полно цветущего жасмина и розовой леспедецы. Рубиново-красные звездочки поздних лилий проглядывают на прогалинках, как редкие искорки, брошенные на ковер из папоротника-орляка.
Тучная летняя зелень однообразна по цветовому звучанию, и все деревья, на первый взгляд, кажутся на одно лицо. Но, приглядевшись, начинаешь различать, что на более отлогих склонах господствует лиственница, а по распадкам — буйные заросли ясеня, бархата, липы, ореха маньчжурского. Над их головами поднимаются, как великаны над толпой простого люда, многовершинные темно-бархатистые кедры, придавая лесу неповторимый вид: такого за пределами Дальнего Востока не увидишь.
На многочисленных островах, образованных протоками Бикина и затопляемых в паводки, в первой шеренге, лицом к воде, валом стоят тальники. Узкие их лепестки, подбитые снизу шелковистым белым ворсом, при ветерке и ярком свете создают феерическую игру голубого, зеленого, серебристого, сразу отделяя тальники от остальной растительности. Как жилая преграда, стоят они у самой воды, окаймляя косы зеленым бордюром. Без тальника я не представляю реки в нашем крае — Приамурье.
Никогда не устаю я глядеть на тальники, Они хороши при любой погоде: когда шквальный ветер треплет и расстилает по земле высокие вейники, они словно белеют от гнева я превращаются в кипящий вал пены, с каким накатывается на берег сердитая морская волна. Вечерней порой, когда небо золотится и истекает светом при последних отблесках зари и в тиши раздается песнь козодоя, похожая на «чаканье» малюсенького молоточка по серебряной поковке, тальники обретают таинственную задумчивость. Застывшие в неподвижности, они повторяются в зеркальной воде, и, глядя на них, хочется верить в печальную судьбу Аленушки и ее братца Иванушки, и начинаешь поневоле прислушиваться к настороженной чуткой тишине.
На островах, за шеренгой тальников, поднимались ввысь чозении, похожие на пирамидальные украинские тополя, такие же узкотелые, с устремленными вдоль ствола ветками. И повсюду вейник — почти в рост человека трава. Она глушит все другие травы и даже кустарники. Только на более высоких гривках, хорошо прогреваемых солнцем, среди вейника проглядывают чемерица с остроконечными плойчатыми листьями, широколистый побуревший лабазник и двухметрового росту крепыш-дудник с лилово-красным суставчатым стволом и белым зонтом соцветия. Порой в толпу чозений вклинивались черемуха, ясень или огромный одинокий ильм с усохшим на верхушке тычком, на котором примостился коршун; он долго следит за проплывающей лодкой.
Дикий виноград шатром накрывает отдельные деревья, а по низу сплетаются в непроходимые заросли различные лианы-древогубцы, кустарники — чаще всего таволга, шиповник, реже — калина и смородина.
Левый берег Бикина — равнина. Глядя туда, я замечал станы косарей, сметанное в копны и стога сено, лошадей у курившихся в тени деревьев дымокуров. Эти картины живо напомнили мне детство, когда я с отцом вот так же ставил палатку и неделями жил на берегу реки, дичая от вольного ветра, от глухомани, которая нас окружала, от пьянящего запаха скошенных трав, от слепящего солнца, голубого неба и белых ленивых облаков. Я невольно поймал себя на том, что мне приятно вспомнить это прошлое, когда жизнь казалась простой и ясной, как эта широкая, расстилающаяся среди галечных отмелей река. Ведь именно с той детской поры зародилась у меня любовь к родному краю, не притупившаяся даже в зрелом возрасте. Может быть, именно это сильное чувство помогло мне пройти через трудные испытания в годы войны и наполняет жизнь глубоким смыслом сейчас…
Осиновые релки языками тянутся через заливные луга и заросли таволги к левобережью, как бы связывая реку с морем кедрово-широколиственных лесов, теряющихся вдалеке на голубых отрогах Сихотэ-Алинского хребта.
Лес никогда не вызывает у меня слепого восхищения или недоумения; я прекрасно знаю, когда можно прийти в него и сказать ему: «Здравствуй!» — как доброму другу, и в какое время лучше держаться от него подальше. Он всегда разный, но все равно родной и понятный.
Павел Тимофеевич внезапно направил лодку к берегу. И тут, за черным утесом, открылась изогнутая, отшнуровавшаяся где-то повыше от главного русла протока; маслянисто поблескивала темная торфянистая вода, казавшаяся страшно глубокой. Над ее стоячей поверхностью резвились маленькие изумрудные стрекозы.
Я недоуменно посмотрел на кормщика, и он мне ответил: «Чаевать пора!» — и указал рукой вперед. Глянув туда, я увидел среди зелени крышу какого-то строения и догадался, что там прячется пасека.
Над протокой стоял густой медвяный запах, его источали цветущие липы, испятнавшие своими белесыми кронами весь косогор.
— Знаткое место выбрано под пасеку, правда? — кивнув в сторону берега, спросил Павел Тимофеевич. — За ветром, всегда тихое… Ежли пасечника не сменили, глядишь, и медком побалуемся. Самый сбор. Тут липа не то что в Расее, не вся враз цветет. Сначала которая ближе к воде, по низинам. Потом та, что повыше, в сопках. Как по-ученому они различаются — сказать не могу, а пчела долгое время с липы взятку берет. Выгодное дерево. Живем, не замечаем, а если подумать, так меду тут — залейся…
Эти слова он договорил, когда лодка ткнулась в берег у небольшого впадающего в протоку ключика. Путники зашевелились, стали по одному выпрыгивать из лодки, чтоб размять ноги. На сырой заиленной почве уже лежали следы чьих-то сапог и детских босых ножонок. Углубления успели заполниться влагой, и к ней во множестве приникли усталые пчелы, слетевшиеся сюда на водопой. Тут же кружились мелкие пепельно-синеватые мотыльки, и покрупнее — пестрые, будто камуфлированные черно-белыми полосами радужницы Шренка, и кирпично-красного цвета поденки с буровато-серой подбивкой крыльев снизу. Когда они садились на коряжину и складывали крылья, то сливались цветом с застарелой корой дерева.
От этой естественной пчелиной поилки к пасеке поднималась тропка. Стараясь не наступить на ползавших повсюду пчел, я подался за спутниками. И сразу вокруг басовито загудели рыжие полосатые слепни, с каждой минутой увеличиваясь в числе. Узенькая тропка привела к дому, возле которого приютилась пасека. Ульи, числом не менее сотни, окрашенные в самые различные цвета, стояли на расчищенной от деревьев лужайке. Над ними стоял дружный пчелиный гуд, оживлявший тишину разомлевшей в тяжкой дреме природы.
— Принимай гостей, хозяин! — крикнул Павел Тимофеевич, когда на пороге показался пасечник.
— Что ж, заходите, — пригласил мужчина средних лет, со светлыми выгоревшими бровями и красным от солнечного зноя лицом.
Рядом, боязливо выглядывая из-за дверного косяка, держался совсем белоголовый, как лопушок, мальчонка лет семи.
В доме было прохладно и опрятно. Через раскрытую дверь влетали и вылетали пчелы, но мух не было.
Пасечник оказался давним знакомым Павла Тимофеевича и, когда тот принялся выкладывать на стол снедь, принес чашку душистого меду и котелок прохладной медовухи.