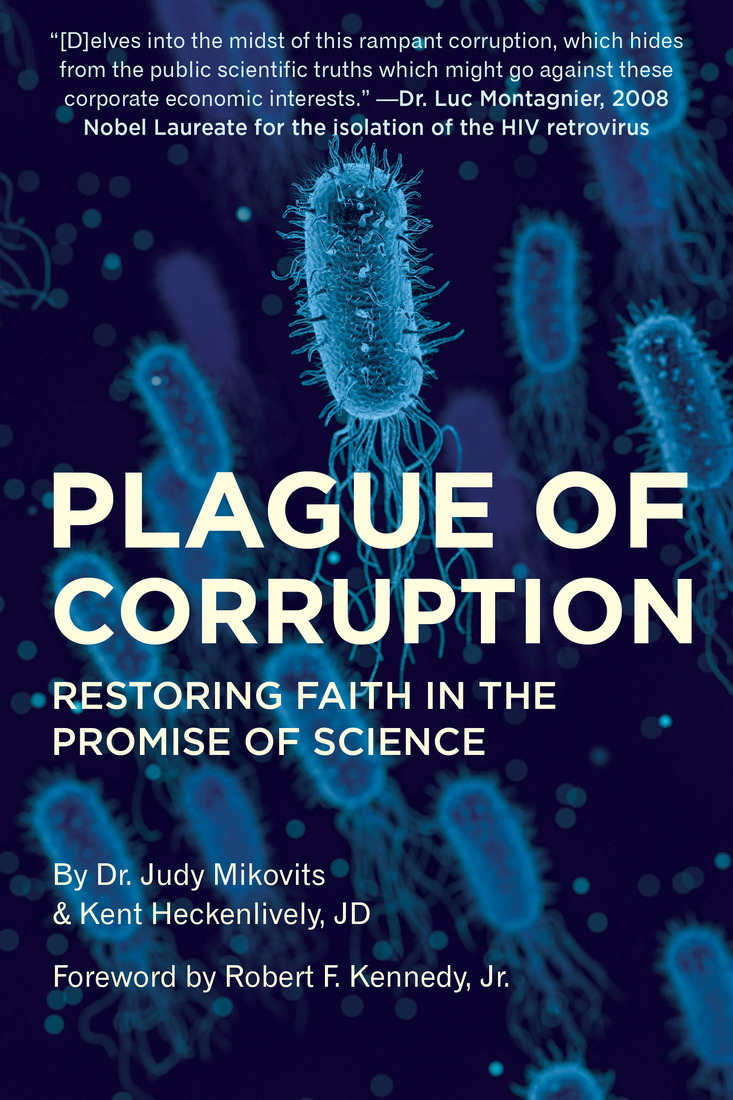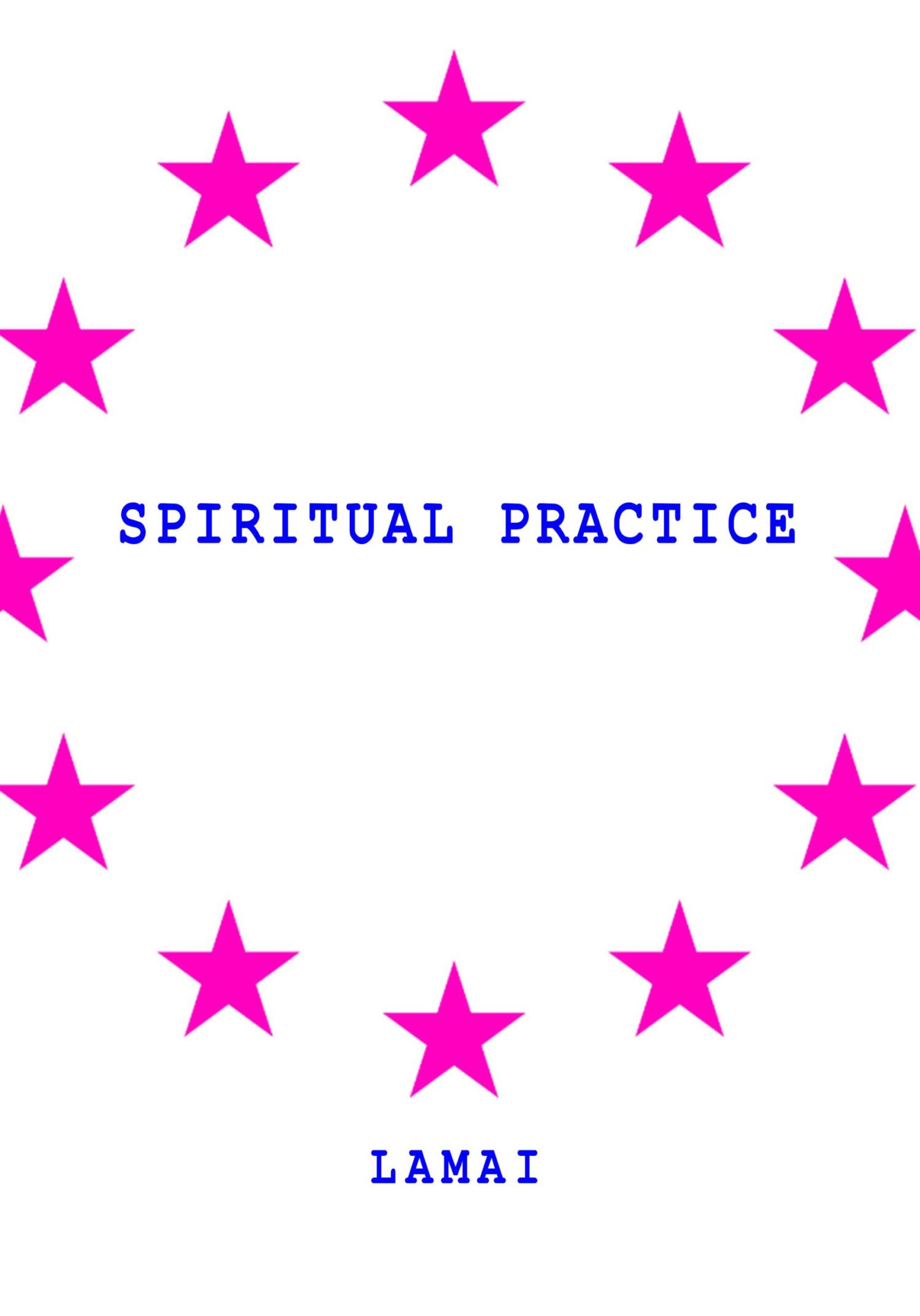Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 68
смогли рассчитать, что за прошедший миллион лет Солнечная система сближалась всего с двенадцатью звездами до расстояния в один парсек[25], причем две трети из этих звезд составляли красные и коричневые карлики, обладающие массой до половины солнечной. Такие сближения не могли вызвать «кометного цунами», ими нельзя объяснить наблюдаемое число долгопериодических комет во внутренней области Солнечной системы.
На протяжении тридцати лет этот вопрос оставался без ответа, пока в 1978 году не вышла научная статья немецкого астронома Людвига Бирмана «Плотные межзвездные облака и кометы». В своей работе ученый предположил, что гигантские молекулярные облака гравитационно воздействуют на кометы, которые все еще принадлежат Солнечной системе, то есть еще испытывают пусть и очень слабое, но все же доминирующее влияние гравитации Солнца. В таком состоянии слабого равновесия нужна совсем небольшая сила, чтобы изменить орбиту объекта и его дальнейшую судьбу. И эта сила, пусть и у разреженных, но поистине исполинских образований газа и пыли, есть, ведь их масса может достигать миллиона масс Солнца! Это была новая интересная идея, ведь до семидесятых годов XX века человечество ничего не знало о подобных структурах. В последующие годы эта теория прорабатывалась многими учеными, которые пришли к выводу, что случаи тесных сближений со «сгустками» или, как их называют астрономы, – ядрами гигантских молекулярных облаков, достаточно редки, а их общее воздействие на кометы облака Оорта примерно равно тому, что оказывают ближайшие звезды. Математические модели показывали, что оба этих сценария не объясняют наблюдательных данных. Нужно было искать что-то еще…
В 1983 году американский астрофизик Джон Бил, основным научным интересом которого была галактическая астрономия, опубликовал статью «Влияние галактических возмущений на околопараболические кометные орбиты», где впервые предположил, что гравитационно слабосвязанные кометные тела во внешних областях Солнечной системы могут испытывать приливное воздействие… Галактики. Вблизи Солнца это влияние пренебрежимо мало, и мы его даже не в силах зафиксировать. Для Земли оно составляет примерно одну триллионную солнечного приливного воздействия. Если приливное воздействие Луны на Землю поднимает уровень моря на полметра, то приливное воздействие Галактики – всего на 10 пикометров[26], что меньше размера атома[27]! Но это на дистанции в одну астрономическую единицу от нашей звезды, а на расстоянии в один световой год[28] все совсем по-другому. В 1985 году Харрингтон и в 1986 году сам Бил установили, что главное возмущающее воздействие на кометы облака Оорта оказывает приливное влияние галактического диска. Все встало на свои места. Причем возмущающий импульс от галактических приливов способствует проникновению комет сквозь динамические барьеры Юпитера и Сатурна. Поэтому можно говорить, что большинство динамически новых комет, которые мы видим вблизи Солнца, посланы нам самой Галактикой!
В наибольшей степени воздействие извне влияет на внешнюю область облака Оорта. По расчетам ученых, за время существования облака оно могло потерять до 95 % своих тел. Астрономы предполагают, что существует работающий механизм, «подпитывающий» внешние области кометного облака объектами из его внутренней части. Как один из источников подобной «регенерации» рассматривался и захват межзвездных комет, но проведенные расчеты показали, что такой сценарий маловероятен.
Итак, в общих чертах я рассказал о том, как долгопериодические кометы попадают в ближайшие окрестности Солнца, а теперь предлагаю перейти к короткопериодическим кометам из транснептунового пояса.
Как мы уже знаем, в 1990-х годах начали массово открывать малые тела за орбитой Нептуна. В 1997 году американские астрономы Мартин Дункан и Гарольд Левисон предприняли попытку компьютерного моделирования орбитальной эволюции подобных объектов. Были взяты 2200 «виртуальных» тел, и смоделирована их история на протяжении миллиарда лет. Расчет показал, что большую часть времени, медленно дрейфуя во внутреннюю часть пояса Койпера, эти объекты находятся под гравитационным воздействием лишь одной планеты – Нептуна. При сближении с ним ледяные тела могут быть выброшены как вовне, так и внутрь Солнечной системы, при этом средний эксцентриситет орбиты остается умеренным и составляет 0,25. Дальше эти кометы ждет встреча с Юпитером и Сатурном, которые вновь «просеивают» их, выбрасывая часть объектов вовне. И лишь те, что минуют этот барьер, увеличивают эксцентриситет своей орбиты и получают шанс предстать перед глазами землян настоящей хвостатой кометой. На это у них уходит несколько тысяч лет. Юпитер и в меньшей степени Сатурн преобразуют их орбиты так, чтобы «контролировать» их афелии, которые лежат вблизи орбит этих гигантов. И вот около 30 % из тех объектов, которые отправились в путь из областей, расположенных далеко за орбитой Нептуна, становятся видимыми нам как короткопериодические кометы семейств Юпитера и Сатурна (часто эти семейства не разделяют, называя все эклиптические кометы семейством Юпитера). Расчеты показывают, что медианное время жизни подобных комет, – от их первого сближения с Нептуном до вылета в облако Оорта или же за пределы Солнечной системы, а порой и до столкновения с Солнцем или планетой, – составляет 45 миллионов лет.
Ученые пришли к выводу, что опубликованные модели эволюции «холодных», не наклоненных транснептуновых объектов и превращения их в короткопериодические кометы, обладают изъяном – в действительности мы наблюдаем больше подобных комет, чем может обеспечить «классический» пояс Койпера, а значит, есть и другие их источники. В 1983 году астрономы Хулио Анхель Фернандес, Винг Хуэн Ип и, в 1988 году, Майкл Торбетт предсказали существование рассеянного диска, населенного транснептуновыми объектами на сильно вытянутых орбитах, но все же гравитационно связанными со своим «пастухом» – Нептуном. Спустя год после первой статьи Дункан и Левисон публикуют ее логическое продолжение, рассматривая как источник эклиптических комет полностью гипотетический на тот момент рассеянный диск. (Первый подобный объект – 1996 TL66, откроют спустя несколько месяцев после выхода их статьи.) Астрономы предположили, что, хотя объекты рассеянного диска обладают сильно вытянутыми орбитами, но при прохождении определенных перигелиев они все еще могут испытывать достаточно сильное влияние Нептуна и быть захваченными в цикличный процесс смены орбитальных резонансов (3:13, 4:7, 3:5), который в итоге может привести их на классическую орбиту комет семейства Юпитера. Расчеты показали, что для согласования с наблюдательными данными таких объектов может быть в тысячу раз меньше, чем в модели классического пояса Койпера. Число тел диаметром более километра оценивается от 2 до 6 миллиардов – это вполне достаточный источник даже при том, что медианное время жизни подобных объектов на нестабильных орбитах значительно уступает срокам спокойной и размеренной жизни «холодных» транснептуновых объектов. В 2004 году итальянский астроном Алессандро Морбиделли и его американский коллега Майкл Браун опубликовали еще одну фундаментальную статью «Пояс Койпера и первичная эволюция Солнечной системы», в которой они также пришли к выводу, что основным источником комет семейства Юпитера и кентавров является именно рассеянный диск.
Помимо комет семейств планет-гигантов, выделяют интересное семейство Энке, названное в честь первой подобной кометы – 2P/Encke. Можно сказать, что
Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 68