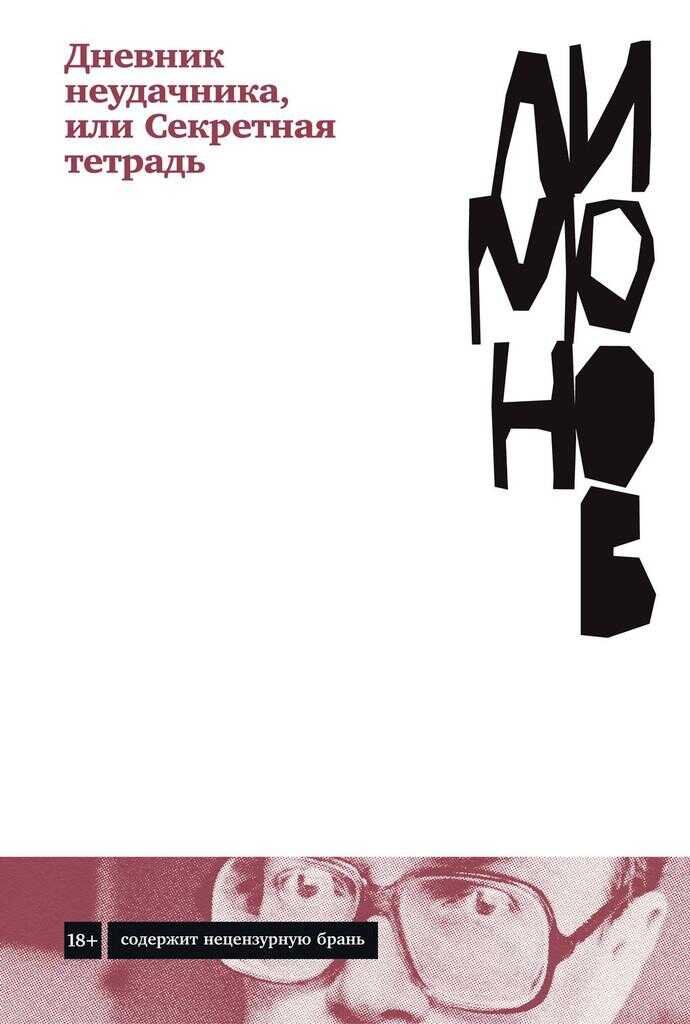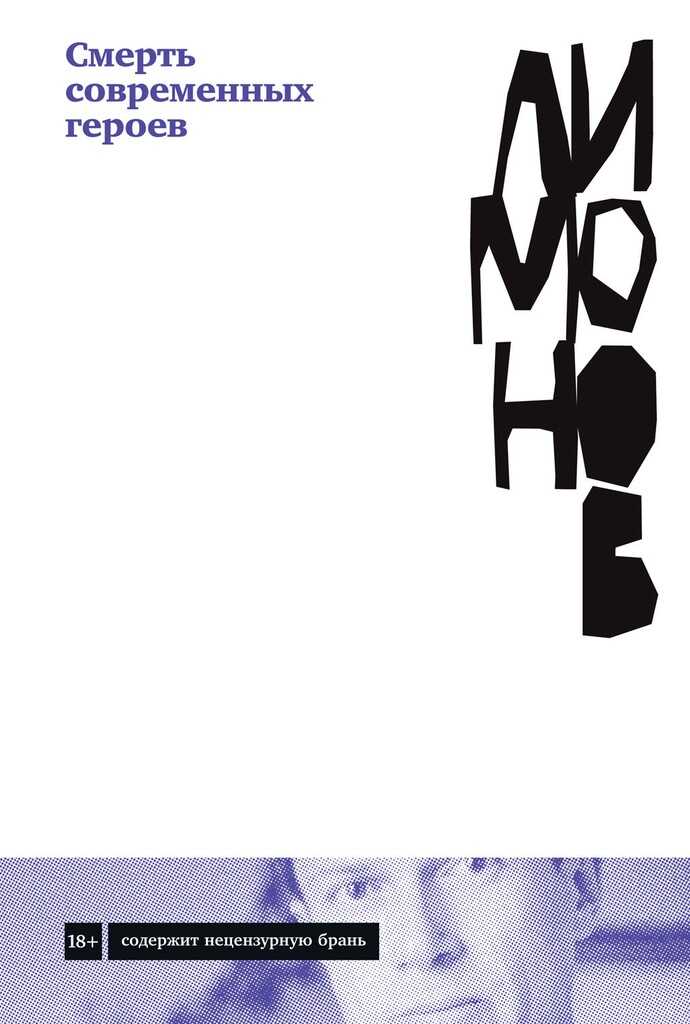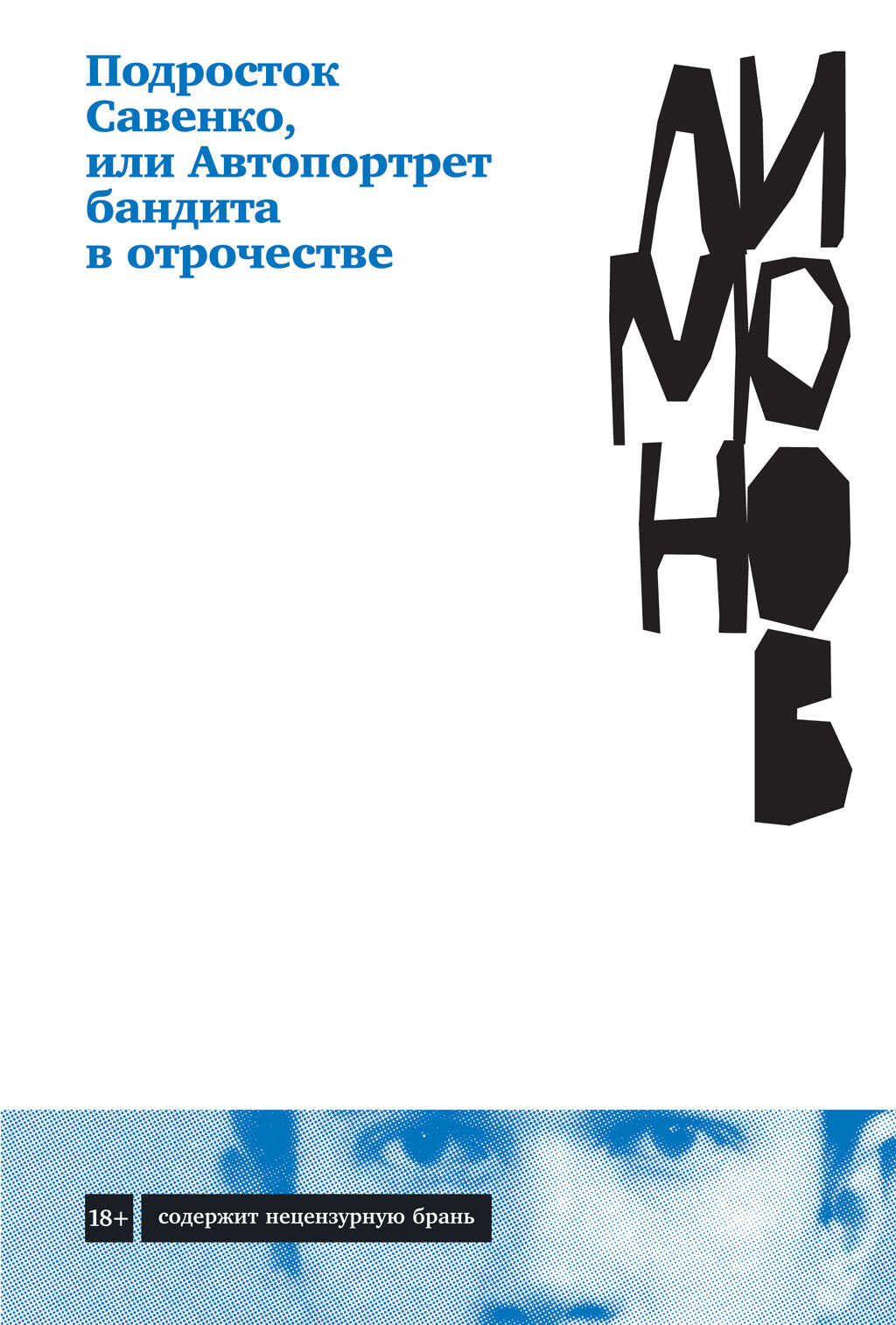нельзя, потому что этот город посвящен Грузину и он его защищал в гражданскую войну. Опять-таки Грузин тут не так важен. Даже и хорошо, что был такой Грузин, которого одни боялись, другие обожествляли почти, третьи ненавидели, но боялись. Кесарем быть — дело сложное. Никогда не знаешь, что подставить народу, какой имидж — профиля или фаса. И никто Грузина быть Кесарем не учил. В любом случае он оказался, ему посчастливилось оказаться вождем народов Союза Советских в самый героический период их истории. Хотим мы того или не хотим. И он справился с задачей, следует признать, что неплохо. Иногда он достигал высот, сравнимых разве что с бронзовым жестом римских цезарей. Чего стоит, например, его величественно-бесчеловечное и героическое, отрывистое по поводу предложенного тевтонами обмена пленного сына Якова на фельдмаршала Паулюса: «Я солдат на фельдмаршалов не обмениваю!» Так он им бросил. Я думаю, они его зауважали…
В 1942-м было хорошо, что есть фокус, в котором собирается вся (для тех, кому нужен один символ) решимость и необходимость Союза… Кулак стягивался у Сталинграда. Новые орудия и танки ночами ехали молчаливые, двигались с новых сибирских и уральских заводов к Сталинграду. И снаряды, и бомбы, сделанные дзержинским заводом и мамой, прибавлялись к общему делу. Сложились в общий штабель.
Он был неспокойным младенцем. Он ударял в маму ножками и ручками изнутри. Стучался с ноября. Декабрь, январь — уже не орудиями, но личным оружием, дом на дом, улица на улицу, уничтожали друг друга тевтоны с союзными племенами и русские с их ребятами в Сталинграде. И не перевешивал никто. А ребенок рвался из мамы, брыкался в ней, мешая ей производить снаряды. Может, он хотел помочь нашим. Она упала в обморок на заводе.
За двадцать дней до появления ребенка на свет Божий, 2 февраля 1943 года, Шестая армия фельдмаршала Фридриха фон Паулюса капитулировала. В первый раз зазвучал для племен Союза победный марш басистых труб. Так что он родился уже ребенком победы. Зачатый в грустном мае поражений, он родился в победном ликовании. После капитуляции Шестой армии, в феврале же, нашими был взят Ростов. Дорогой ценой. Тевтоны, нужно всегда воздавать должное врагу, были хорошими солдатами. И даже ведомый ложной, с точки зрения современности (на 1987 год), идеей национал-социализма, немец дрался как зверь.
Четвертого марта 1943 года по снежной улице, закутав дитя в свободную солдатскую шинель, понесли они его записывать в живые. Солдат поскрипывал по снегу сапогами, и девушка, в шубейке из чего-то, называемого «цигейка» (впоследствии она была переделана в шубку сыну), была в цветном платке, на косы брошенном (кос, впрочем, не было уже, были волосы рассыпчатые, которые отец в пятидесятые годы, смеясь, называл рыжими). Понесли они время от времени взвизгивающее десятидневное дитя в дом, где помещалось учреждение, длинно называемое «Отдел записей актов гражданского состояния Дзержинского городского Совета народных депутатов Горьковской области». И (спросив или не спросив у солдата и девушки свидетельство о браке?) записали ребенка под именем Савенко Эдуарда Вениаминовича.
В те времена народ больше все погибал, рождались мало, поэтому по дороге в загс, в загсе и из загса встреченные русские, татары и кто угодно улыбались ребенку, выставившему десятидневную физиономию в волжское небо. Настроение у народа поднималось каждый день, ибо наши войска, пусть и по нашей еще территории, но топали неуклонно на Запад. Бог войны изменил тевтонам, предпочел нас, и мы радовались этому. Новый ребенок — было хорошо. Вряд ли уже тевтон доберется до этого ребенка. Плюс солдатский ребенок — хорошо. Солдат входил в моду, в почет. Недавно еще солдата жалели. Теперь он ступал твердо.
Почему такое имя вдруг? Виноват солдат. Он зачитывался в те дни Эдуардом Багрицким, «революционным поэтом-романтиком», как его называют литературные словари и энциклопедии. Впоследствии сын его набрел на стихи Багрицкого, и стихи ему понравились.
По рыбам, по звездам проносит шаланду,
Три грека в Одессу везут контрабанду.
На правом борту, что над пропастью вырос,
Янаки, Ставраки, папа Сатырос…
А ветер как гикнет, как мимо просвищет,
Как двинет барашком под звонкое днище… —
прочел вдохновенно автор, глядя на парижские крыши. И подумал, что сейчас, спустя семьдесят лет после Великой революции, пора бы уже успокоиться жителям Союза Советских и одинаково принять свою историю, и революционных поэтов-романтиков, и поэтов-романтиков контрреволюционных. И Багрицкого, и Гумилева. Другие страсти колышут пусть население. Эти-то давно мертвые. Упиваться мертвыми страстями грешно. Вот автор, передовой русский человек, только что получивший французское гражданство, одинаково гордится и красными матросами, и реакционером Константином Леонтьевым. «Всё наше» — так нужно думать. Хорошо, чтобы дом Родины, ее Пантеон, был полон личностей различных и интересных. Вот французская нация ведь мудра же в этом (у нее, правда, 198 лет истекло после взятия Бастилии, и в злопамятной России за все 70 лет не случилось Реставрации) — одинаково гордится и Людовиками своими, включая Казненного, и Робеспьером и его ребятами. Каждый может по вкусу своему выбрать себе героя в истории своей Родины. Но все они, гурманы и аббаты, «либертин» маркиз де Сад и кардиналы Ришелье и Мазарини входят в кунсткамеру Родины. Поглядев в прошлое, есть чем развлечься и погордиться, если нужно. Не следует бояться прошлого, не нужно бояться «плохих» личностей в истории. Мнение современников редко бывает сбалансированным, и кто был плох вчера, возможно, окажется хорош сегодня. Кто знает. Вместо того чтобы каждый раз переписывать историю, разумнее принять ее такой, какой она выясняется сама. Семьдесят лет — достаточный срок.
Летом немцы еще прилетали бомбить их. Откатываясь все дальше на запад, немецкие аэродромы с «мессершмиттами» все-таки не отдалились еще настолько, чтобы не достичь неба над Дзержинском. Мама вернулась на завод, не те были времена, чтобы выкармливать детей в свое удовольствие. Уходя, родители оставляли дитя одно. Дабы, если случится, что «мессершмитт» сбросит бомбу поблизости, дитя, крепко увязав, задвигали в снарядном ящике под стол. Солдат усилил стол, набив на него дополнительные доски. Против прямого попадания никакие доски не помогли бы, разумеется, но маме на заводе было спокойнее. В руку сыну совали не бутылку молока с соской, но, о шокинг, — хвост селедки. Оказалось, что уже тогда он решительно заявил о своих гастрономических предпочтениях. Он сосал себе хвост, лежа под столом, и думал свои младенческие думы, еще мало чем отличающиеся от грез растений и животных. Он мог подавиться хвостом и помереть к чертовой матери четырех-, пяти- или сколько