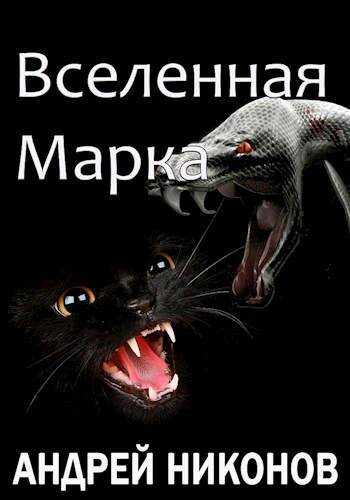Глава XXII. «Русская сказка»
В майские дни 1930 г., едва прибыв в Ленинград, М. К. заключает договор с издательством «Academia» на издание сборника русских сказок. «Вы знаете, что „Academia“ подписала <со мной> договор на 20 листов сборника сказок под моей редакцией, – сообщал он М. П. Алексееву 19 мая 1930 г. – Но сдать книгу я должен к 1‑му августа. Это – страшно, если даже прибавить некоторое льготное время. Но как-нибудь сделаемся <так!>».
В июне М. К. увлеченно готовит сборник. Обдумывая структуру и оформление книги, он обращается к другим фольклористам. «О том, что Вы заключили договор на сборник в „Академиа“, я знаю и очень рад, – пишет ему Ю. М. Соколов 29 июня 1930 г. – К сожалению, каких-либо портретов сказочников, не использованных в нашей книге, я не имею. Досадно…» (70–46; 5 об.). Из примечаний к отдельным сказкам ясно, что составитель пользовался сведениями, полученными от Д. К. Зеленина; свои неопубликованные записи ему предоставили Н. П. Гринкова и Н. М. Хандзинский.
Договор на издание сборника русских сказок, да еще в центральном и весьма престижном издательстве, в 1930 г. уже не вызывал удивления: негативное отношение к фольклору, характерное для 1920‑х гг., менялось на терпимое и даже благосклонное. Этот сдвиг вызван был, помимо других причин, разгромом этнографии в конце 1920‑х гг. и связанными с этим попытками приблизить фольклор к словесному искусству и рассматривать фольклористику как область литературоведения. «…Теперь в РСФСР пошли в ход сказки, – сообщает М. К. (не без доли скрытого ехидства) М. П. Алексееву 1 сентября 1930 г. – Была „1001 ночь“[1], „Армянские сказки“[2], „Афанасьевская Капица“ или „окапиченный Афанасьев“[3], готовится сборник Азадовского, печатается сборник Озаровской „Пятиречье“[4], печатается сборник Ю. М. Соколова „Сказки о попах“[5] и пр. Не грех бы было заняться этим и Украине». Далее (в том же письме) М. К. просил Михаила Павловича помочь ему с изданием «Избранных сказок дiда Чмыхало»[6], коего он намеревался представить «как удивительного и цельного мастера-художника, украинского писателя sui generis[7]. Сборник был бы листов в 15 вместе с комментаторским и вступительным аппаратом. Пожалуй, была бы неплохая работа. <…> Сказки Чмыхало – записаны по-украински, потому ничего не пришлось бы переводить. Кроме моей вступительной статьи и примечаний»[8].
В течение нескольких летних и осенних месяцев 1930 г. шла напряженная работа: ученый подбирал тексты, комментировал их, писал биографические справки о каждом сказочнике. Сборник разрастался, превратившись со временем в двухтомник. Рукопись была сдана в срок (дата под вступительной статьей: 1 августа 1930 г.). «Я сдал, наконец, свой сборник в „Academi’“ю, – сообщал М. К. в письме к Ю. М. Соколову 2 октября 1930 г. – Измучила меня эта работа основательно и лишила совершенно летнего отдыха»[9]. И обеспокоенно спрашивал: «Не знаете ли Вы, кому она пойдет в Москве на отзыв? Не напортили бы мне чего там – это ведь бывает»[10].
Отправленный в набор в декабре 1930 г., двухтомник появился на книжных прилавках в начале 1932 г.[11] Впрочем, не обошлось – на заключительной стадии – без вмешательства Главного управления по делам литературы и издательств. Цензоры сошлись в том, что «книга особой ценности не представляет, но как экспортный товар может пойти». Из того же документа явствует, что из книги было изъято несколько текстов «порнографического характера» и вычеркнута явно крамольная фраза из вступительной статьи М. К.: «Пролетарская литература вышла из крестьянской и находится сейчас под ее влиянием»[12].
«Русская сказка» построена необычно. Книга открывается подробной вступительной статьей М. К., далее следуют 15 разделов (по числу сказочников), причем каждому из них предпослана характеристика сказочника; завершают же каждый раздел примечания к сказкам. В ряде случаев характеристики как бы иллюстрируют или дополняют сказанное во вступительной статье. М. К. ставил своей задачей разнообразить и обновить состав сказок. Так, он ввел в первый том (в качестве приложения к сказкам пермского крестьянина А. Д. Ломтева, открытого в свое время Д. К. Зелениным, сказку «Иван Попович и прекрасная девица», записанную в 1884 г. А. А. Шахматовым от «старушки Тараевой». В конце второго тома помещались приложения: шесть вариантов одного сказочного сюжета («Верная жена») в изложении шести разных сказочников; сказка вятской крестьянки М. И. Вдовкиной «Ребок» (образчик «диалогической сказки»), заимствованная из сборника Зеленина «Великорусские сказки Вятской губернии» (1915); фрагмент из «Воспоминаний об Иркутске» (1848) Е. А. Авдеевой («Терентьич») и отрывок из статьи М. И. Семевского «Сказочник Ерофей» (1864). Двухтомник завершали словарь народных или местных слов, указатель сокращений и перечень сказочников.
Распределение текстов по сказочникам не было новшеством: именно по такому принципу строились сборники сказок Н. Ончукова и Д. Зеленина. Точно так же был организован и сборник «Сказки из разных мест Сибири». Однако некоторые фольклористы возражали в то время против классификации такого рода. А. И. Никифоров, например, писал:
Этот принцип исходит из понимания сказки как литературного произведения, имеющего свой авторский стиль, свою школу. Лучший опыт издания сказочников по мастерам принадлежит М. К. Азадовскому. Но повторять механически этот опыт нельзя, потому что должен быть сделан следующий шаг, т. е. подача мастеров не в механическом соединении, а сгруппированными по стилям, по школам, по манере рассказа[13].
Еще более жестко высказался по этому поводу (уже после смерти М. К.!) В. Я. Пропп, утверждавший, что Азадовский и его ученики стремились «найти лучших сказочников и записать лучшие сказки». Они, по мнению Проппа, выискивали «художественно полноценные тексты», тогда как важнее, с научной точки зрения, записывать любой устный сказ (т. е. фиксировать материал безотборочно). «Индивидуалистическое изучение фольклора[14], – утверждал Пропп, – таит в себе ряд опасностей: отрыв от истории общественных отношений, быта, творчества масс»[15].
Двухтомник «Русская сказка», включавший в себя преимущественно тексты, известные по публикациям Зеленина, Макаренко, Ончукова, Садовникова, братьев Соколовых, заметно отличался от предыдущих сборников своим сибирским уклоном. Личность составителя наложила печать на характер издания. Из 15 сказочников, представленных в «Русской сказке», пятеро были сибиряками, которых «открыли» либо предшественники М. К., либо он сам и его ученики (Ф. Кудрявцев, Н. Хандзинский). В первом томе М. К. поместил сказку, записанную А. А. Макаренко в 1896 г. от енисейского крестьянина Е. М. Кокорина (Чимы), а в приложении ко второму тому публиковались, кроме того, сказка «Верная жена», записанная в 1926 г. И. Ростовцевым, и рассказ о сказочнике Терентьиче (из статьи Е. А.