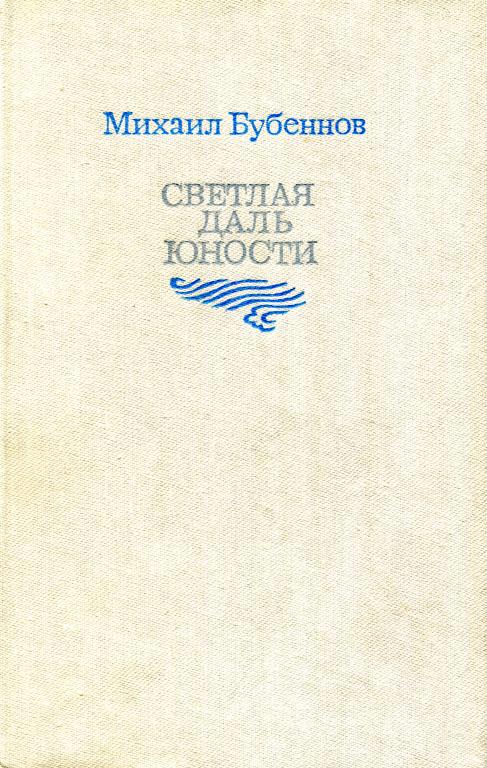А. Н. Аксаков, В. И. Далю предстояло провести остаток жизни.
Большой деревянный дом – тридцать четыре комнаты. Местом для работы Владимир Иванович выбрал залу (так тогда говорили) с высоким потолком, украшенным тремя плафонами. В среднем, продолговатом, изображена Аврора, с розовым шарфом над головой, на золотой колеснице, запряженной белыми конями. В крайних, круглых, плафонах – амуры с лирой и факелами. Стол В. И. Даль установил возле больших окон, выходящих в тихий дворик.
Наш герой вставал рано и тут же принимался за работу. Писал до полудня. В час дня обедал. Затем независимо от погоды отправлялся на прогулку. Чаще всего шел к Ваганьковскому кладбищу. Но, случалось, поворачивал в другую сторону – к Пресненским прудам, где в 1864 году Русское общество акклиматизации животных и растений открыло зоологический сад. Отдохнув после прогулки, вновь садился за письменный стол. Но по вечерам только вносил исправления и что-то подклеивал.
Дом Даля в Москве
Чтобы отдохнуть от напряженной умственной работы, В. И. Даль иногда мастерил мебель. В комнате, расположенной рядом с залой, стояли токарный и слесарный станки. Владимир Иванович сам склеил большие, сантиметров тридцать в длину, коробки, в которые складывал «полосы» – длинные листы бумаги со словами. Надписанные в алфавитном порядке коробки лежали на полках – это была «рукопись» «Словаря». В Нижнем Новгороде работа над ним была доведена до буквы «П». В Москве предстояло завершить работу.
В. И. Даль написал из Первопрестольной одному из своих знакомых:
«Я живу, как Вы знаете, одиноко; человек я весьма не публичный, в людях не бываю, люблю общество тесное, близкое, родное».
Кто же входил в это «общество тесное, близкое, родное»? Прежде всего, Александр Фомич Вельтман, интересный писатель. Помимо литературы, его с нашим героем связывали узы военного братства. Оба они участвовали в русско-турецкой войне 1828–1829 годов. Юрист и литератор А. Ф. Кони в очерке «Из студенческих лет» писал:
«Жена Вельтмана, Елена Ивановна, – была тоже писательницею… Сухая, высокого роста, с умными глазами и решительною, убежденною речью, она являлась центром кружка, собиравшегося в обширном кабинете казенной квартиры на углу Левшинского и Денежного переулка, которую занимал Вельтман по должности директора Оружейной палаты. В этом кабинете, среди облаков жукова табаку, раз в неделю по четвергам и сходились старые сослуживцы Вельтмана по военной службе в турецкую войну и по знаменитой в свое время школе колонновожатых, – его верный друг Горчаков, военные сенаторы Колюбакин и фон дер Ховен, писатели Чаев, Даль, Снегирёв, старик Погодин и многие другие».
Еще одно общество, посещаемое В. И. Далем, – «пятницы» И. С. Аксакова, поэта и публициста, одного из идеологов славянофильства. Критик В. П. Буренин в одном из своих мемуарных очерков написал:
«У меня… живы в воспоминаниях интересные литературные “пятницы”, бывшие у Ив. Серг. <Аксакова> во время оно, в начале шестидесятых годов <…> Какое разнообразие литературных элементов сталкивалось под гостеприимным кровом любезного хозяина: тут встречались столпы славянофильства, как Ал. И. Кошелев, и старики литераторы, как покойный Даль, и блистательные крупные таланты, чисто “западнического пошиба”, как М. Е. Салтыков, и профессора философии, как Юркевич, и экономисты, как Безобразов, и либеральные священники, и молодые болгары и сербы, и начинающие литераторы».
И. С. Аксаков
Среди тех, кто посещал дом В. И. Даля на Большой Грузинской улице, прежде всего, надо назвать давних друзей хозяина – актера М. С. Щепкина и историка М. П. Погодина. Вероятно, бывал в доме двоюродный племянник Михаила Петровича, Дмитрий Александрович Ровинский. Уроженец Москвы, он в 1844 году окончил Петербургское училище правоведения и несколько лет прослужил в Министерстве юстиции. С 1848 по 1870 год работал в Москве – в Уголовной палате и в Уголовном департаменте Судебной палаты. Затем продолжил службу в Петербурге – сенатором Уголовного кассационного департамента. Но память потомков Д. А. Ровинский заслужил своими искусствоведческими работами. Он, в частности, опираясь на собрание лубков, переданное В. И. Далем в Публичную библиотеку в Петербурге (и на другие источники), составил свой ставший знаменитым труд «Русские народные картинки» (Кн. 1–5, СПб., 1881). Назовем еще одну его фундаментальную работу – «Полное собрание гравюр Рембрандта со всеми разницами в отпечатках. Собрал и привел в порядок Д. Ровинский. Атлас» (Т. 1–3, СПб., 1890).
«Пословицы русского народа»
Судьба благоволила В. И. Далю в деле создания и обнародования его основных трудов. Во-первых, дала ему число лет жизни, достаточное для того, чтобы он довел свое главное дело до конца, до типографского станка. Во-вторых, в печатании основных трудов нашего героя явно ощущается ее благожелательная рука.
Начнем рассказ со сборника «Пословицы русского народа». Он впервые увидел свет в журнале «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете». Этот журнал был основан в 1845 году. Через три года его закрыли. И вот в 1858 году он опять начал выходить, а его редактором вновь стал О. М. Бодянский.
Расскажем обо всем по порядку. Осип Максимович Бодянский родился в ноябре 1808 года в местечке Варва Лохвицкого уезда Полтавской губернии, в семье священника. После окончания в 1831 году Полтавской духовной семинарии поступил на филологический факультет Московского университета. Учившийся вместе с ним К. С. Аксаков в своих мемуарах рассказал о любопытном случае, произошедшем на лекции профессора теории изящных искусств и этнографии Н. И. Надеждина:
«Он как-то вздумал сделать репетицию и стал нас спрашивать, спросил и Бодянского, сидевшего на задней лавке. Бодянский поднялся и стал отвечать, как по книге, и при этом беспрестанно опускал глаза на стол. Студенты засмеялись. “Он по книге читает”, – заметили они друг другу. Надеждин, вероятно, услыхал это и сам, заметя книжный слог ответа, сказал, несмотря на свою деликатность: “Извините, господин Бодянский, мне кажется, вы по книге читаете”. – “Нет”, – отвечал Бодянский и спокойно продолжал свой ответ. Надеждин, смотря на его опускающиеся глаза и слыша постоянно ровный книжный язык, сказал: “Извините меня, господин Бодянский, пожалуйте к кафедре”. Бодянский замолчал, послышался стук и топот: это Бодянский приближался к кафедре, стал перед нею и с невозмутимым спокойствием продолжал свой ответ, точь-в-точь как на задней лавке. “Сделайте милость, извините меня, – сказал Надеждин, – прекрасно, прекрасно!”
Бодянский был одним из самых дельных студентов, серьезно занимался историей и теперь занимает в области науки всем известное почетное место».
Еще будучи студентом, О. М. Бодянский впервые выступил