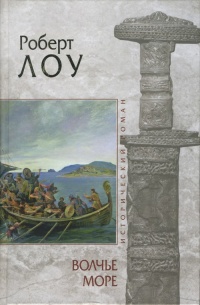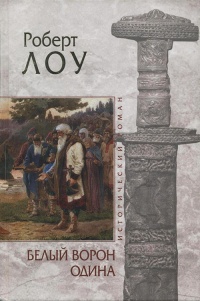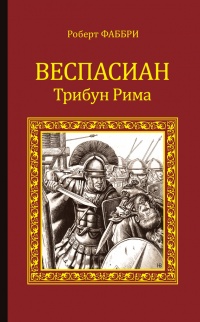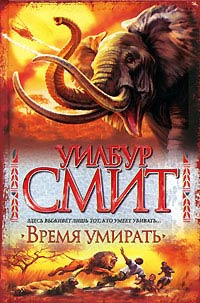Иной от глада сгинет, иному буря мачту обрушит, иного сразит копье, иной падет, мечом побежденный, иной низвергнется с древа высокого, иной повиснет ничком на виселице, иному клинок вскроет жилы, иному в застолье мед застит разум, и, поспешив слова произнесть в урон,
убьет он собрата ― и участь свою обретет[2] .
Сотня бочек эля, пятнадцать тысяч овец, столько же бушелей ячменя, столько же бушелей проса и пшеницы. Шестьдесят тысяч лошадей, веревок, навесов, палаток, кирок, мотыг... Я слышал все это, когда рассказы об осаде старательно записывали ученые Великого Города много лет спустя.
Помню одну старую бороду, с пером наготове, которая щурится на меня, мы сидим с оливками, хлебом и вином на моем удобном балконе в Квартале чужеземцев, наслаждаясь ветерком, дующим над Рогом с Галаты.
― Сколько сыроваров? ― спросил собеседник и нахмурился, когда я рассмеялся.
Я сказал ему, сколько, но вряд ли они вообще там были. Я никогда не видел приличного сыра за все время, что мы плыли с войском Святослава по Дону. Да и потом, когда сидели под покрытыми рунической черепицей стенами Саркела, потные, возбужденные, строили планы и старались не умереть до того, как разбогатеем.
Если бы нам понадобился сыр, Святослав бы нашел. Его войско славилось выносливостью в долгих переходах ― они умели обходиться без обозов и кухни, питались только полосками похожего на кожу мяса, размокающего от пота под седлом. Но ради взятия Саркела Святослав изменил своим привычкам.
Я видел его один раз, когда, обливаясь потом, грузил стрелы и бочки с соленой бараниной, ― никакой свинины, потому что половина войска не стала бы ее есть по той или иной причине, ― на корабли, уже груженные бревнами, с греческими мастерами на борту. На берегу вдруг засуетился народ, все радостно закричали, побросали свои дела и побежали приветствовать приближающийся отряд.
То был Святослав, шедший легким галопом в облаке пыли во главе дружины воинов в кольчугах, шлемах с перьями из конского волоса и ярко-синих отороченных мехом плащах, верхом на великолепных лошадях. На такой жаре они должны были спечься заживо, но лес их копий ни разу не дрогнул.
Правитель навещал каждого своего сына, на сей раз была очередь Ярополка, но мы слишком запоздали, чтобы приодеться. К раздражению Эйнара, Давшие Клятву встретили сей торжественный миг как разинувшие рот мужланы, голые по пояс, грязные, вспотевшие, таскавшие груз, как рабы ― в основном потому, что мы не верили, что рабы погрузят все как следует.
Не знаю, чего я ожидал, но правитель Руси, Киева и Новгорода, хозяин земель от Балтики до края земли ромеев из Миклагарда, был крепким маленьким человеком с носом картошкой и желтой бородой.
Под доспехами, как у всех русов, на нем были белая рубаха и штаны, но ослепительно чистые. Голова выбрита, кроме косы над ухом, заплетенной серебряной лентой. В другом ухе сверкало огромное золотое кольцо.
― Особо и смотреть не на что, да? ― фыркнул Берси, оставив работу.
Он вытер лоб, огромная грива его рыжих волос прилипла к потной спине.
― Можешь сказать это ему, когда он воткнет кол тебе в задницу и оставит так висеть, ― возразил Кривошеий, отпив разбавленного эля из меха.
Он вытер свою снежно-белую бороду и перебросил мех с элем мне.
― Это они так здесь делают? За что? ― недоверчиво справился Берси.
― За то, что болтают, будто на великого правителя Киева не стоит и смотреть, ― вмешался чей-то голос.
Мы повернулись и увидели одного из всадников с блестящей лысой головой и шлемом на согнутой в локте руке.
Он улыбался, как и мальчик рядом с ним, паренек лет примерно шестнадцати, а потому охвативший нас страх рассеялся. Я, прищурившись, разглядывал чужаков, а остальные спокойно подошли, рассматривая лошадь мальчика и снаряжение, искусно выделанную кольчугу мужчины, большие металлические чешуйки его пластинчатого покрова.