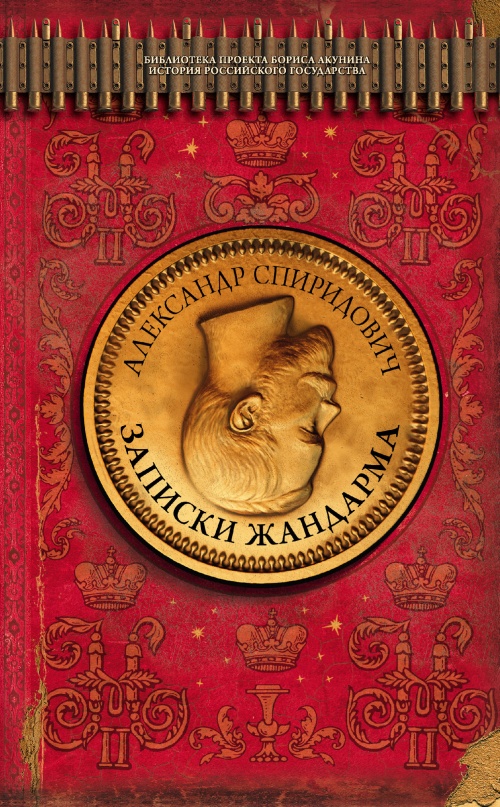Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
отношении других. Неким символом исторического примирения было германо-французское сотрудничество, покончившее с длившемся веками противостоянием этих стран.
Но этот пример не стал универсальным. Старые «обиды» сопровождают польскую историю и современность, ее прошлые взаимоотношения с Германией, Россией, Украиной, Швецией и т.д. Греция и Македония, Греция и Великобритания, Сербия и Косово – этот список взаимных претензий в Европе можно продолжить.
В жизни Европы обозначились и принципиально новые моменты. В течение многих послевоенных десятилетий США сохраняли фактическое преобладание и даже контроль над Западной Европой. Он выражался в явном экономическом доминировании, в ядерном и военном «зонтике», обеспечивающем безопасность Европы и защиту от возможного противника.
Новая ситуация возникла после кардинальных перемен в стратегии и политике США, поставивших во главу угла собственные интересы – и экономические, и внешнеполитические. Эти перемены сопровождались явными антиевропейскими заявлениями и действиями.
И, употребляя снова термин «адаптация», отметим, что Европейскому Союзу и отдельным европейским странам предстоит найти новые формы адаптации к изменившимся условиям.
Одним из проявлений этой адаптации может служить и явный поворот европейцев к Востоку. Стратегическое экономическое соглашение между Европейским Союзом и Японией демонстрирует эту новую ориентацию Европейского Союза. Если к этому добавить серьезно расширяющиеся связи Европейского Союза с Китаем, то станут очевидными те задачи и решения, которые стоят перед лидерами стран Старого Света.
При этом Европа остается традиционной «законодательницей мод» в сфере культуры, науки и образования.
Суммируя все эти факторы и обстоятельства, отметим, что Европа, теряя многие прежние преимущества, остается лидирующим игроком в мировом концерте – и в области экономики, и в геополитическом контексте, и тем более в сфере культуры и развитии цивилизации.
* * *
Я уже отмечал, что одним из основных направлений моих научных интересов была проблема «Россия и Европа».
Обращаясь сегодня к этой тематике, я могу повторить, что она не только сохраняет, но и усиливает свое научное и общественное значение.
Некоторые историки и политологи, ратующие за поворот России на Восток, даже пытаются доказывать, как уже отмечалось, что Россия больше принадлежит к азиатской цивилизации, чем к европейской.
Мне представляется, что такая точка зрения конъюнктурна и противоречит реальной многовековой истории. Геополитические интересы России требуют нашего всестороннего внимания к Азии и Дальнему Востоку, к осознанию значения и роли Евразийского континента в мировой истории. Но это отнюдь не снимает того очевидного факта, что Россия принадлежит к Европе о чем свидетельствует история, традиции и наша идентичность.
И в этом вопросе не следует шарахаться в другую сторону.
Поэтому я считаю свои труды по европеизму в России весьма актуальными в современных новых дискуссиях.
Если понимать европеизм в самом широком смысле слова, то есть в плане отношения и восприятия Европы как определенной общности, то можно с полной определенностью сказать, что и «российский европеизм» имеет длительную традицию.
Он включал в себя несколько компонентов.
Прежде всего, уже упомянутое внимание представителей российской общественной и политической мысли к проектам объединения Европы. Многочисленные исторические документы дают основание сделать вывод, что в петербургских салонах начала XIX века хорошо знали проекты Руссо и других европейцев. Директор Царскосельского лицея В.Ф. Малиновский составил в начале XIX века обширный проект объединения Европы, в котором в концептуальном и в конкретно-практическом плане обрисовал Россию как неотъемлемую часть Европы и непременного участника «общеевропейского строительства».
В течение XIX века многие представители общественной и политической мысли неоднократно обращались к тем проектам и общеевропейским идеям, которые распространялись в Европе. В начале ХХ века Россию не обошли стороной и лозунги Соединенных Штатов Европы.
И здесь уже обозначился очевидный водораздел в подходах к европейским идеям. Причем, если в середине XIX века идейное размежевание западников и славянофилов условно можно соотнести со сторонниками и противниками европеизма, то теперь активными противниками общеевропейских теорий выступали большевики. Известна резкая и жесткая критика со стороны Ленина лозунгов и планов Соединенных Штатов Европы; в Москве оценили известные планы Пан-Европы Куденхове-Калерги как «империалистические», нереальные и т.п.
Столь же негативно восприняли в Кремле и первые шаги европейской интеграции после Второй мировой войны. В конце 1950-х и в 1960-е годы Политбюро ЦK КПСС специально рассматривало известные планы Шумана и Плевена и помимо их политического осуждения отвергало возможность участия Советского Союза в европейских планах и проектах.
Но в середине 1970-х годов, подключившись к Хельсинскому процессу, советские лидеры приняли один из составляющих компонентов европеизма – общую ответственность стран и жителей Европы за безопасность Европы и за ее роль в развитии международных отношений.
Окно, прорубленное Петром I в Европу, и просвещенные абсолютистские методы Екатерины II приближали Россию к Европе (в том числе и в интеллектуальном плане), но они не снимали глубокого расхождения и даже раскола в российской общественной и политической мысли в отношении к европейским ценностям.
Идеи российской самобытности, понимаемые часто не только как отличные, но даже враждебные Европе, в разных вариациях пропагандировались в России в XIX и в ХХ столетиях. Очень часто в этом сходились российские реакционеры и либералы. «Русская идея» во многих сочинениях и трактатах противопоставлялась идее европейской.
Советское время добавило к этому новые «аргументы». В идеологических постулатах той эпохи европеизм трактовался как выражение космополитической теории и практики, как воплощение отрицательных черт буржуазного либерализма и реформизма. Со своей «колокольни» советские идеологи имели все основания так считать, поскольку действительно на протяжении многих десятилетий европейские идеи развивались в русле европейского либерализма и реформизма.
Ситуация начала меняться во второй половине 80-х годов ХХ столетия. При всей метафоричности и утопизме горбачевская идея «общего европейского дома» с участием Советского Союза ознаменовала новый этап в эволюции «российского европеизма».
Как бы ни относиться сегодня к горбачевской эпохе, его выступление в Страсбурге на заседании Европейского парламента открывало новый этап в российском отношение к европейским ценностям. Депутаты Европейского парламента стоя рукоплескали словам советского партийного генсека о том, что мы принимаем такие основополагающие ценности, как принципы приоритета прав человека и гражданского общества, гуманизма и пацифизма.
События конца 1980-х и 1990-е годы в России во многом изменили отношение к Европе со стороны российской политической элиты и на уровне массового обыденного сознания. Следует признать, что и ранее антизападничество в Советском Союзе не имело антиевропейской направленности. Скорее оно выражалось в антиамериканизме, питаемом не отторжением американских ценностей, а попытками США утвердить за собой главенство в мире.
Но одновременно с этим в 1990-е годы снова проявились те особенности и тенденции, которые не позволяли говорить о совпадении «русского» и «классического» европеизма. Оживленные и порой весьма острые дискуссии о судьбах России, ее прошлом и будущем, о ее историческом предначертании с новой силой вышли на поверхность. Именно на этой основе возник неожиданный всплеск интереса
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190