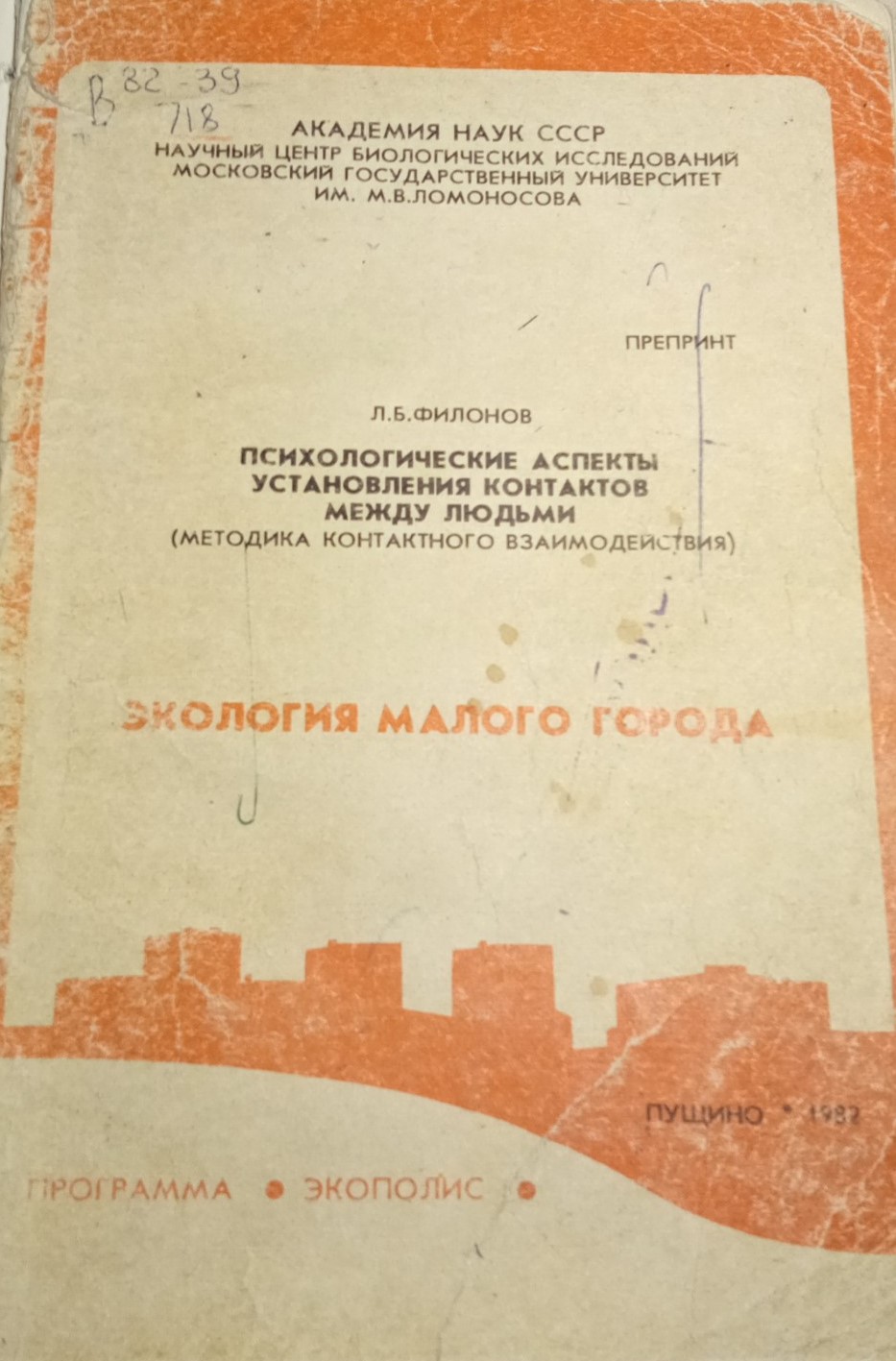что корабль задевает морское дно.
— Первый лед, — сказал Папанин, переводя стрелку настольного телефона. — Михаил Прокофьевич, с почином вас!.. Входим в Юшар?.. Да-да, на полярной станции обязательно побываем.
Подступы к проливу Югорский Шар были забиты льдом.
Справа тянулись отлогие берега материка, по другую сторону зеленели холмы острова Вайгач. Ледокол остановился у рубежа Баренцева и Карского морей. Моторный бот доставил нас на полярную станцию, одну из старейших в Арктике. Чистые бревенчатые домики, похожие на дачи, мачты радиостанции, ветряной двигатель, маяк… Навстречу бежали полярники:
— Вот радость-то! Милости просим, товарищи!
Девушка-метеоролог познакомила гостей с лабораториями. Полярники наблюдали за режимом льдов и течениями в проливе, изучали климат, жизнь моря, каждые шесть часов передавали в Москву метеорологические сводки.
Вернулись на ледокол. Мы двинулись к востоку, но через четверть часа пришлось остановиться: лавируя между льдинами, к нам спешил катер; там были инженеры, возвращавшиеся из бухты Варнек к себе в Амдерму. Продрогшие и посиневшие, обжигаясь чаем, они рассказывали в кают-компании амдермские новости. Позднее по трапу поднялся молодой атлет в зюйдвестке и глянцевитом черном плаще, из-под которого виднелась меховая безрукавка.
— Куда прошли наши инженеры? — спросил он.
Я сразу узнал гостя, хотя он заметно возмужал и его молодой басок звучал довольно внушительно.
— Локтев!.. Какими ветрами принесло сюда, Вася?
— А я в Амдерме радистом.
— Значит, добились своего?
В глазах Васи забегали веселые искорки.
— Не совсем! Амдерма все же на материке — Большая земля, а мне желательно на Рудольф или Новосибирские острова. Обещают в будущую навигацию перевести…
Вот и Карское море! Издавна славилось оно как «ледовый мешок», опаснейшее место Северного морского пути. Бывает, в течение двух-трех суток обстановка здесь меняется неузнаваемо: мощные белые поля спускаются к материку, образуя неприступные барьеры, но подуют иные ветры, и льды постепенно уносит.
Из репродуктора в штабной каюте послышался голос капитана Белоусова:
— В миле по курсу дрейфуют два иностранца-лесовоза, будем их выводить.
Английские суда «Скрин» и «Севенчур» шли из Гулля на Игарку. Незначительные для нашего корабля льды были опасны лесовозам, и капитаны их предпочли задержаться в ожидании выручки. Наш ледокол проложил широкий канал, по нему за лидером двинулись иностранцы и к утру вышли на чистую воду. Англичане поблагодарили Белоусова за помощь и повели суда к Енисейскому заливу. То была наша первая ледовая проводка. Корабль пошел на северо-восток, к рубежу Карского моря и моря Лаптевых — проливу Вилькицкого. Курс лежал через архипелаг Норденшельда.
В штабе совещались. Прилетели Илья Павлович Мазурук, начальник полярной авиации, и Ареф Иванович Минеев, руководивший морскими операциями в западной части Арктики. Грузы, воздушная ледовая разведка, уголь, строительство портов, флот сибирских рек, ледоколы и караваны, события навигации — обо всем этом говорили на совещании. То, что со стороны выглядело второстепенным делом, здесь оказывалось важным и неотложным: постройка школы в Тикси и гаража для вездеходов на Диксоне, закладка парников, установка маяков открытие поликлиники… Все это требовало людей — инженеров, плотников, педагогов, штукатуров, врачей, агрономов. Денег хватало, материалы были подвезены, но люди?! Без них самые превосходные замыслы остаются на бумаге. С запада на «Русанове» шли сто двенадцать строителей, с востока на «Анадыре» — сто десять. «Капля в море!» — хмурился Еремеев.
Ледокол вклинился в стену тумана, до того плотного, что, казалось, его можно черпать ведрами, словно сметану, и даже резать ножом, как студень. Ветер рвал серовато-белые полосы, открывая безжизненные острова архипелага Норденшельда. На расстоянии трех корпусов позади двигался «Сакко», пристроившийся к лидеру в районе Диксона; пароходу предстоял далекий путь, его трюмы были заполнены грузами для колымских новостроек.
Суда вступили в зону девятибалльного льда. Проносились обломки самых причудливых форм и массивные поля, будто обсыпанные ослепительно белым кристаллическим порошком. Ударяясь в обшивку судна, льдины с грохотом отваливались. Для «Сакко» такие удары были небезопасны; пароход часто останавливался и, словно жалуясь, подавал гудки. Мы возвращались и вновь прокладывали дорогу.
Жизнь на флагманском корабле текла размеренно. Москвичи освоились с полярным солнцем, светившим все двадцать четыре часа в сутки, и в полночь, опустив занавески над иллюминаторами, укладывались спать.
— Михаил Прокофьевич, куда пойдет наш ледокол? — спросил я однажды у капитана. — Мы еще так мало видели! Придется ли нам побывать в арктических портах?
— И почему до сих пор нет белых медведей? — тоном шутливой претензии продолжил синоптик-москвич.
— Погодите, все будет: и порты, и разные неожиданности, и, надеюсь, медведи, — пообещал Белоусов.
Провожая меня в Арктику, журналист Михаил Розенфельд предостерегал:
— Тебе еще не приходилось встречаться с белыми медведями? Смотри не увлекайся! Соблазн будет велик… Нет сомнения, что рано или поздно ты разразишься восторженным творением на медвежью тему. Это участь всех арктических корреспондентов, и тебе ее не избежать…
Наш ледокол и «Сакко» подходили к проливу Вилькицкого. В кают-компании собирались к обеду, «доминисты» в своем уголке гремели костяшками.
— Медведь! — завопил страшный голос с палубы.
Все бросились к иллюминаторам. Метрах в тридцати, у края льдины, стоял матерый зверь с густой желтоватой шерстью. Задрав длинную морду, хозяин полярных льдов глядел на черное дымящееся чудовище. Мазурук с винчестером выскочил на палубу. Поздно! Будто почуяв опасность, медведь мгновенно соскользнул в воду.
Вскоре я отправил небольшую корреспонденцию для «Последних известий по радио». Вечером мы оказались у мыса Челюскин и в суете прозевали московскую передачу, но на другой день мне принесли радиограмму. «Растроган встречей с медведем, передай ему привет, предсказание сбылось», — торжествовал мой друг Миша.
Ледокол стоял в проливе Вилькицкого, близ выхода в море Лаптевых. Оно было свободно от льдов, и «Сакко», погудев на прощание, самостоятельно продолжал плавание к устью Колымы. Мы находились у семьдесят восьмой параллели, против мыса Челюскин, самой северной оконечности Европейско-Азиатского материка.
Туман приподнимался, открывая мыс Челюскин. На невысоком скалистом берегу выстроились домики полярной станции. Бдительным стражем возвышался сорокапятиметровый маяк. Полоса льда тянулась вдоль побережья. Грянул пушечный выстрел — полярники салютовали ледоколу.
— Откуда на Челюскине артиллерия? — спросил я у Минеева.
— Там есть старинная пушчонка. В туманную погоду выстрелами сигнализируют судам, что берег близко.
С полярной станции привезли подарок — белых медвежат Свирепого и Тихонького, взятых во время недавней охоты. Их устроили на палубе. Свирепого посадили на цепь, а его братца, с умильной и доверчивой мордочкой, привязали веревкой: малыш, дескать, никуда не денется. Но в первую же ночь незримо для вахтенных Тихонький перегрыз привязь, полез за борт, плюхнулся в