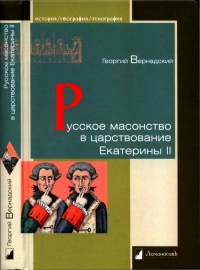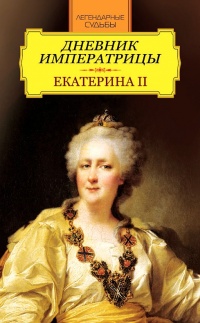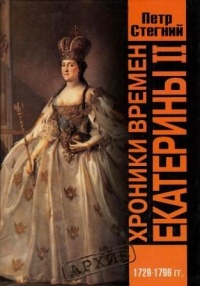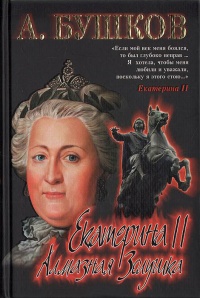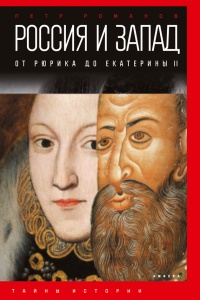За ним спешат толпою Племянницы его И в дар несут с собою Лишь масла одного. «Не брезгай, — все кричат, — Христос, дарами сими; Живем мы так, как в старину, И то не чтим себе в вину. Что вместе спим с родными».[116]
В последние годы царствования распутство государыни приобрело гротескные формы. Двадцатидвухлетний корнет Платон Зубов, вошедший в спальню дряхлеющей государыни летом 1789 года, вышел из нее лишь по смерти Екатерины в ноябре 1796 года. Его стремительное возвышение, невероятная власть (назначен генерал-фельдмаршалом) при решительном отсутствии каких-либо политических способностей и отмеченной всеми мемуаристами общей бесцветности вызывали роптание даже у приближенных.
Молодой Крылов также не остался безучастным к нравам двора. Самым ранним свидетельством тому стала его трагедия «Клеопатра», написание которой, по свидетельству М.Е. Лобанова, относится к 1785 году. Содержание этой несохранившейся трагедии неизвестно. Однако образ любвеобильной и деспотичной египетской царицы легко ассоциировался с русским материалом. Сам жанр классицистической трагедии предполагал как наличие государственной тематики, так и наличие политических аллюзий. Восточный же антураж во второй половине XVIII века в европейских литературах был традиционной упаковкой самого актуального (и часто взрывного!) содержания. Само название трагедии — даже при отсутствии достоверных данных о ее сюжете — было провокационным. Аитиекатерининская направленность трагедии не вызывает сомнения, особенно в контексте дальнейших крыловских писаний.
Показателен и эпизод с Павлом I, которому Крылов (уже по восшествии опального наследника на престол) преподнес свою трагедию, не устыдившись того, что она была в свое время якобы отвергнута и Дмитревским, и самим автором как «ребяческое подражание французским трагедиям», по словам П.А. Плетнева. В «Дневнике» М.П. Погодина сохранилась запись, сделанная со слов Крылова 27 октября 1831 года: «Павел встретил и сказал: — Здравствуйте, Иван Андреевич. Здоровы вы? — Он подал ему трагедию “Клеопатра”». Вне антиекатерининского контекста этот эпизод лишается всякого смысла.
Однако Крылов ищет более острые и одновременно более литературно препарированные (а потому и более закамуфлированные) формы антиекатерининского эпатажа. В комедии «Бешеная семья», как точно описывал Гуковский, «любовная горячка, увлечение флиртом, нарядами и т.д., охватившие всех родственниц Сумбура, от его дочери до старухи-бабушки, — изображена в тонах веселой буффонады, и сатира отступает на второй план по сравнению с фарсом». Показателен был образ старухи Горбуры (потом он появится и в «Почте духов»), одержимой этой любовной «горячкой». Любопытно, что Гуковский употребил выражение «любовная горячка» применительно к содержанию комедии. Как известно, позднее Крылов напишет повесть «Мои горячки» — именно ее будут искать во время упомянутого обыска в типографии. Зная общий контекст писаний Крылова эпохи «Зрителя», можно предположить, чго повесть была посвящена «Венериным» забавам и легко ассоциировалась с дворцовой повседневностью.
«Бешенство»(иногда «сумасшествие»), как и «причуды» («их причуды поношу» в стихотворении Крылова «Мое оправдание»), как и «проказы» (комедия Крылова «Проказники»), — все эти слова, с неизменной частотой употребляемые писателем, означали в словаре молодого Крылова «развратное поведение». Видимо, «горячки» можно тоже отнести к тому же семантическому регистру. В «Проказниках», написанных в 1788 году, как и в «Бешеной семье», главным вновь становится мотив любовных проделок. Казалось бы, ничего особенного Крылов тут не придумал: комедия всегда держалась на любовных qui pro quo. Крылов между тем сместил все акценты, перевел комедию в фарс и памфлет (Княжнин и его жена узнали себя в Рифмокраде и Тараторе), довел традиционные амплуа до гротеска, не оставил ни одного «позитивного» героя в общей картине тотального аморализма.
Однако главное за Крылова сделала сама жизнь. «Бешенство» и «проказы» двора (а не только «проказы» Княжнина и его жены) поневоле становились фоном комедийных перипетий. В «Сочинителе в прихожей» также присутствовал острый памфлетный элемент: в самый кульминационный момент вместо сочинения Рифмохвата графу Дубовому подносят составленный Новомодовой список ее 44 любовников.
Молодой Крылов предстает перед современниками в амплуа описателя разврата и неуемного женского кокетства, в особенности кокетства и разврата престарелых «красавиц». Еще в «Почте духов» эти два «порока» оказались основным объектом сатиры в письмах гнома Зора (принадлежность их Крылову была подтверждена П.А. Плетневым и не вызывала сомнений у позднейших исследователей[117]). Так, в письме VI дается портрет «беспримерной женщины» (курсив Крылова. — В. П.), которая в течение 30 лет занята «наукой нравиться» и «ночное время проводит в забавах» (I, 47). В IX письме гном Зор обличает маскарады, где творится «безумное… своеволие» и где под маской юной красавицы скрывается «старая мумия лет во сто» (1, 63, 64). Далее в письмах проходит целая вереница Бесстыд и Неотказ, любовников и любовниц, проводящих ночи в усердных поклонениях «питерской богине»(1, 217).