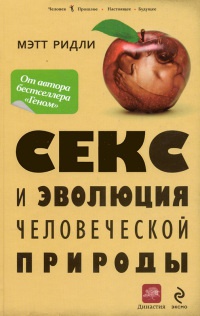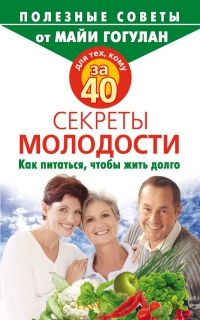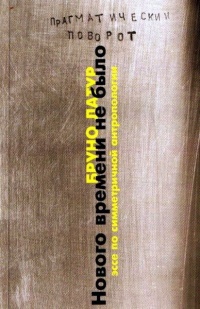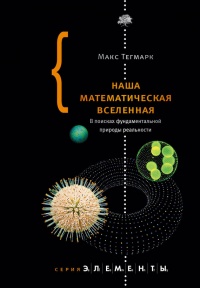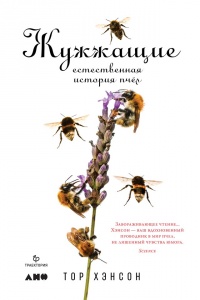Олицетворением Старого порядка в «Политиках природах» становится платоновская аллегория Пещеры. Однако на место дуализма Пещеры и Неба идей модернистская традиция, как понимает ее Латур, помещает целую серию дуализмов, от локковского разделения первичных и вторичных качеств до леви-строссовской дихотомии природы и культуры. При этом не важно, за каким из двух полюсов закрепляется онтологический или аксиологический приоритет: критика Латура направлена на сам принцип разделения. Само по себе обращение к трансценденции при обсуждении устройства коллектива является симптомом упадка демократии, превращая легитимную дискуссию свободных граждан на агоре в конфликт ничем не обоснованных мнений «узников пещеры» (13). Проблема в том, что единая или та самая природа (с определенным артиклем – la Nature) (14) не только не отделена от Общества непреодолимой стеной, а, как настаивает Латур, была изобретена именно для того, чтобы давать ему уроки:
Никогда, начиная с первых греческих дискуссий о совершенстве общественной жизни, о политике не говорили в отрыве от природы; или, точнее говоря, к природе никогда не обращались, не желая тем самым преподать политический урок. Не было написано ни единой строчки, по крайней мере, в западной традиции, где за такими словами, как природа, природный порядок, закон природы, естественное право, жесткая причинность, незыблемые законы, не следовало бы, через несколько строчек или параграфов, некоторое утверждение о том, как реформировать общественную жизнь (с. 38).
Под «природой» понимается не глобальная экосистема, а именно принцип трансценденции, к которому апеллируют реформаторы общественной жизни. И эта «природа» оказывается несовместима с единой и неделимой республикой, граждане которой – люди и нелю́ди – совместно трудятся над построением общего мира. Так проясняется один из самых шокирующих, на первый взгляд, тезисов латурианской политической экологии, а именно утверждение о «смерти природы»:
Когда неистовые экологи с дрожью в голосе восклицают: «Природа скоро умрет», то сами не знают, насколько они правы. Слава Богу, природа умрет. Да, великий Пан умер! После смерти Бога и человека природе тоже пора на покой. Давно пора, ведь мы уже практически не в состоянии заниматься политикой (с. 36).
Природа «умрет» в том же смысле, в каком после произнесения клятвы в зале для игры в мяч «умер» Бог, наместником которого был король, и, в менее драматических обстоятельствах, «умер» человек, чей образ, как предсказывал Фуко, смыла набежавшая морская волна. Душа – темница для тела, природа – препятствие для политики. Король должен умереть для того, чтобы родилась нация, а природа – чтобы родился коллектив.
Однако природа мертва, а коллектив еще нет. Ведь в республиканском словаре невозможность политики означает прежде всего узурпацию власти. В латурианской перспективе узурпируют ее как раз не политики, а Ученые, претендуя на то, что только они могут управлять «челноком», который в воображаемой модели «двухпалатного коллектива» циркулирует между палатой людей (мнений, интересов, желаний, вторичных качеств, ценностей) и палатой «вещей» (тяжестей и скоростей, первичных качеств, фактов). Именно покушение на монопольное право ученых давать советы политикам превратило Латура в одну из главных мишеней «научных войн», или, в терминологии автора, «лилипутских войн с постмодернизмом». Республиканский пафос «Политик природы» направлен прежде всего на десакрализацию власти ученых как наместников божественной, или «той самой», природы. Из этого совершенно не следует, что ученые полностью лишены власти, напротив, они становятся частью демократического процесса, в рамках которого устанавливаются ее прерогативы и принципы взаимодействия с другими учреждениями нового коллектива. Она становится властью в прямом смысле слова, так как ее прерогативы четко прописаны в новой Конституции, но при совершении своих действий она обязана соблюдать процессуальные нормы (dans les formes, due procedure).