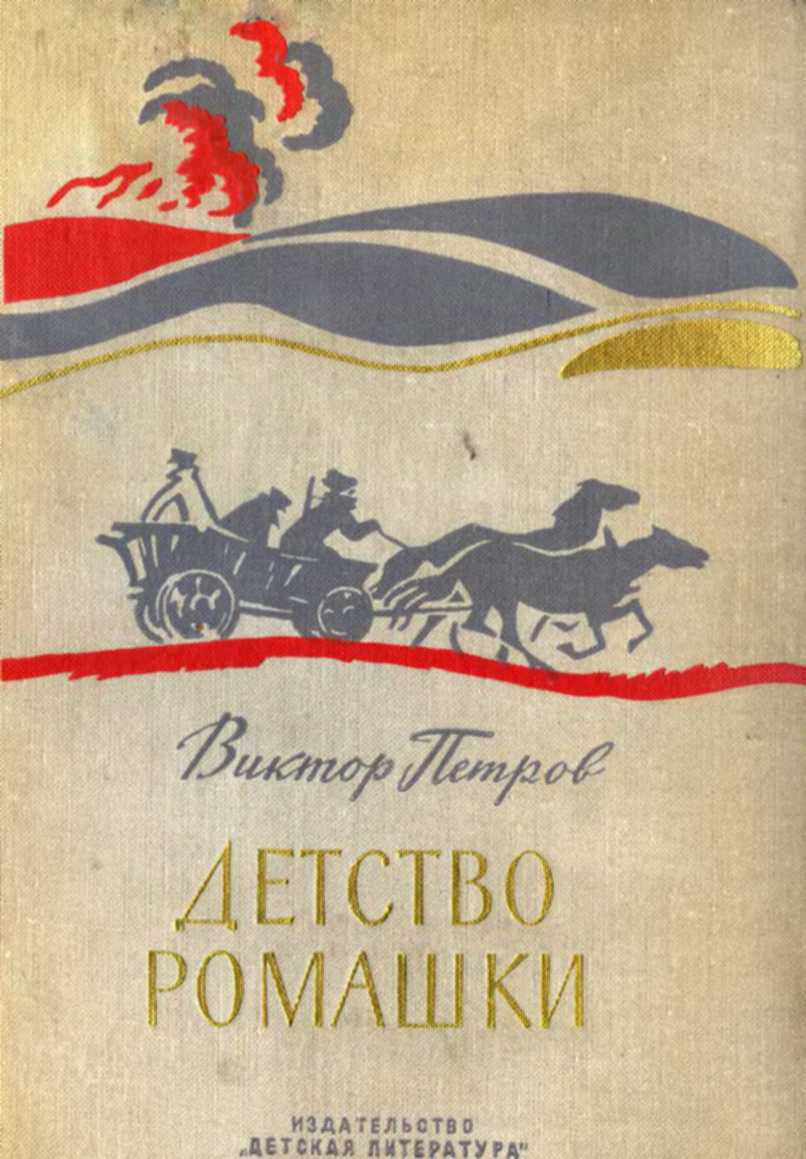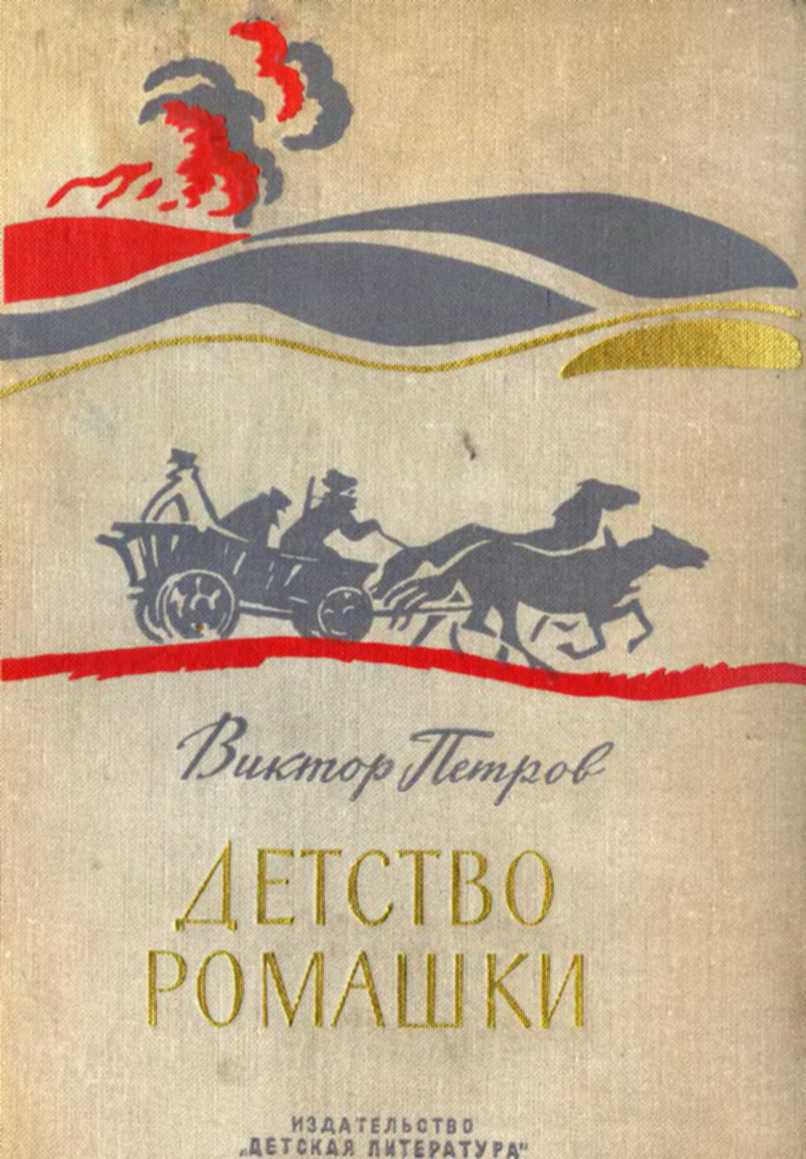на большом и превосходном миноносце «Лассаль», и миноносец его зимовал на правом берегу Невы, у Николаевского моста.
Особенной службы зимой не бывает, а до квартиры на углу Шестой линии и Среднего было не больше двадцати минут ходьбы.
Он очень подружился со своим сыном Никитой. Из обрубка дерева построил ему настоящий трехмачтовый фрегат и вместе с ним пускал его в ванне. Читал ему Брема[88] и рассказывал всяческие истории о знакомых судовых собачках. Иные сам сочинял.
Мальчишка оказался смышленым и не лишенным чувства юмора. А жилось ему неважно: характер сестры Варвары становился все более и более сварливым.
К тому же она начала красить губы и любезничать с каким-то нэпманом, который по виду и манерам мог бы быть младшим братом блаженной памяти Андрея Андреевича.
В квартире пахло смесью духов «Убиган» и оладий на подсолнечном масле — Варвара деятельно готовилась к приему своего любезного спекулянта. А на улице светило зимнее солнце и стояла отменная морозная погода. Бахметьев взял Никиту и вышел с ним на воздух.
Сперва они без всякой цели шли по направлению к Неве, а потом Бахметьев вспомнил: нужно было пройти в управление порта похлопотать насчет дров, и они пошли через мост.
На мосту рассуждали о том, какого бы им завести ручного зверя, но внезапно их разговор был прерван.
— Васька Бахметьев! — сказал чей-то удивленный голос, и Бахметьев остановился.
Перед ним, в меховой шапке с ушами и потрепанном штатском пальто, стоял Вадим Домашенко, друг и приятель Домашенко, с которым они когда-то кончали корпус.
— Вадим! Сколько лет не видались?
— Без малого пять. Порядочно дел наделали за это время, а?
Несмотря на свою непрезентабельную внешность, Домашенко выглядел таким веселым, каким никогда не бывал в корпусе. Он имел на то все основания и, взяв Бахметьева под руку, немедленно их выложил.
Флот, в сущности, никогда его не привлекал. Болтаться на кораблях, стрелять из пушек — какая радость? Гораздо интереснее делать вещи. Настоящие нужные вещи.
После демобилизации в восемнадцатом году он сразу поступил в Электротехнический институт. Конечно, было голодно, холодно и черт знает как трудно, но все-таки он его кончил и уже стал инженером.
И работы было сколько угодно, а дальше предвиделось еще больше, потому что страну нужно было электрифицировать — дать хороший, яркий свет во всю эту кромешную старинную темноту и наново перевернуть жизнь миллионов людей.
Он говорил с несвойственным ему увлечением. О Ленине, о строительстве гигантской электростанции на Волхове[89] и о дальнейших, просто потрясающих проектах, о сотнях тысяч и миллионах киловатт. Говорил, точно был коммунистом, хотя едва ли мог состоять в партии и всю Гражданскую войну сидеть в тылу. Что же с ним случилось?
— Слушай, — вдруг сказал он, — переходи к нам. Пока что я устрою тебя на какую-нибудь административную должность и ты сможншь учиться. Люди нам сил нет как нужны.
— Люди везде нужны, — медленно ответил Бахметьев.
Совсем близко, у правого берега, крайним в группе миноносцев стоял его «Лассаль». Пар валил от труб парового отопления, и несколько человек не спеша прибирались на полубаке. Конечно, сейчас это была всего лишь железная коробка, но весной эта коробка должна была стать одним из самых быстроходных кораблей флота.
— Брось, — сказал Домашенко. — Иди к нам, не пожалеешь.
Может, и в самом деле стоило идти? Может, здесь и был тот выход, о котором он столько раздумывал в бессонные ночи?
Совсем не плохо было бы жить на берегу вместе с сыном Никитой и заниматься спокойным делом. И учиться тоже было бы не плохо.
Но все-таки отказываться от флота было трудно. Почему? Что его привязывало к кораблям?
Нет. Так сразу, на ходу, в случайном разговоре, решать было невозможно. А потому Бахметьев обрадовался, когда впереди увидел еще одну, тоже знакомую фигуру:
— Смотри, кто идет!
— Батюшки! — поразился Домашенко. — Живой Леня Гроссер! Что за день такой, что я всех встречаю?
Это действительно был Леня Гроссер, бывший флота генерал-майор и преподаватель минного дела в Морском корпусе. Он очень похудел, и воротник шинели сидел на нем как хомут, но говорил он по-прежнему звучным басом:
— Ну вот, ну вот, здравствуйте, молодые юноши.
С ним за пять лет не случилось ничего особенного. Одно время он плоховато питался, но это было только к лучшему. Он стал просто стройным и чувствовал себя превосходно. Как двадцать пять лет тому назад.
И по-прежнему преподавал минное дело в Морском училище. Впрочем, не по-прежнему, а по-новому. Теперь не годилось так, между прочим, рассказывать всякие вещи, теперь нужно было создавать стройную систему. И неожиданно Леня Гроссер засопел носом:
— Вот раньше у меня были всякие там ордена и ленты. Разные чепухи. А теперь мне вдруг дали орден Трудового Знамени.[90] Так это — настоящий орден. Потому что его мои ученики выхлопотали.
Он чрезвычайно был доволен своими новыми учениками. Они не шалопайничали, старательно занимались и даже не подсказывали. Он много мог бы о них порассказать — из них должны были выйти превосходные минеры, но сейчас он торопился. На лекцию — сами понимаете. И, махнув рукой, Леня Грессер побежал дальше.
— Бодренький старичок, — сказал Домашенко и рассмеялся. — Не поверю, чтобы они не подсказывали. Сам когда-то этим занимался.
Бахметьев промолчал. Смеяться не стоило. Леня был хорошим стариком и увлекался своим преподаванием. Был уверен в том, что делает нужное дело. Ему можно было позавидовать.
Всю дорогу до площади Труда Домашенко говорил о высоковольтных линиях и понижающих подстанциях. У него тоже не было никаких сомнений, и ему тоже можно было завидовать.
На прощанье он записал Бахметьеву свой адрес и телефон.
— Позвони. Я тебя в два счета устрою.
Демобилизоваться, конечно, можно было, и предложение Домашенко выглядело очень заманчивым. Во всяком случае, о нем следовало подумать.
— Ладно, — ответил Бахметьев. — Позвоню. Вечером.
16
— Почему это порт? — спросил Никита, когда они вошли в длинное красное здание на канале. Он был разочарован. По его представлениям, в порту должно было быть море, а здесь никакого моря не оказалось.