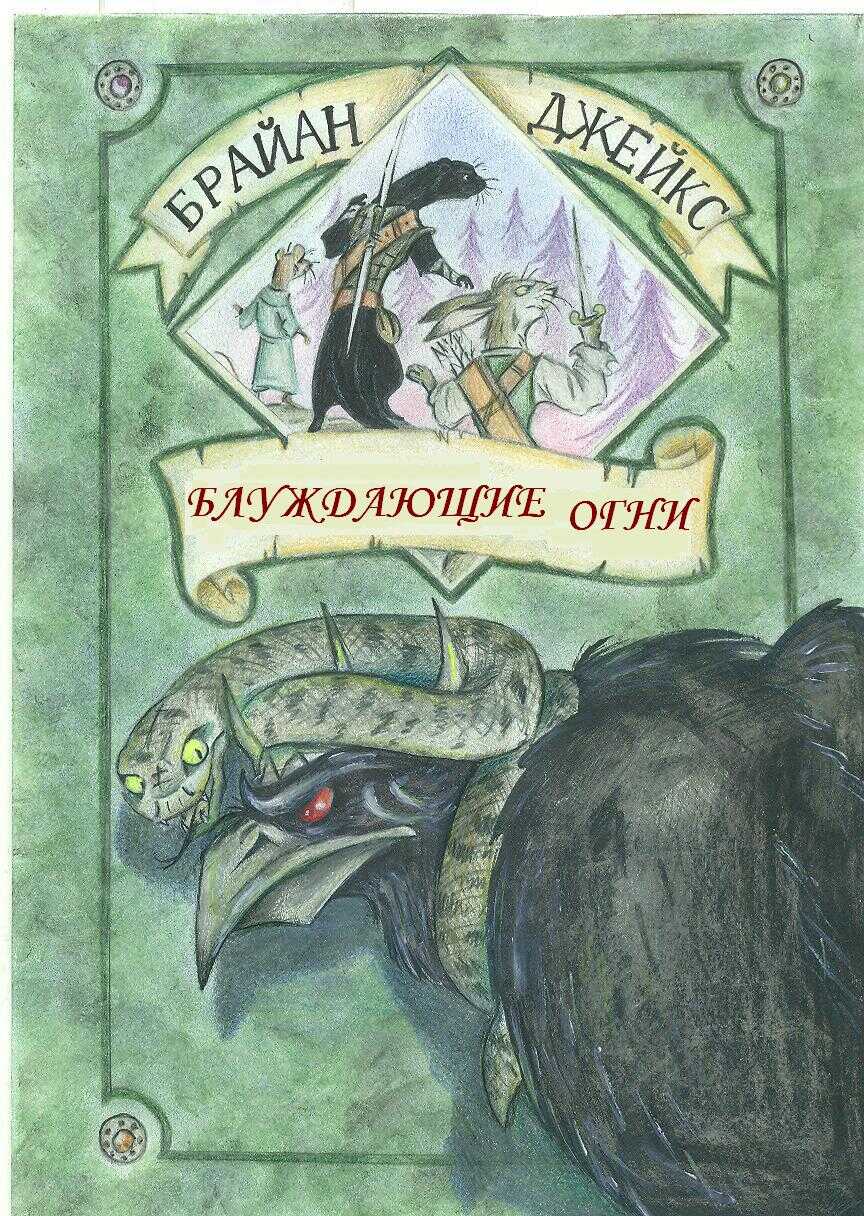Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 79
Эвпейт задумывается.
Конечно, он помнит юношу – того, которым был когда-то, – смеющегося вместе с призраком, подобным ему, с бывшим Лаэртом. Но они умерли, все они. Медленно, с годами, полными яда и страданий, они растрачивали пыл юности, теряли окрылявшие их надежды и лелеемые мечты, пока их жизни не превратились в жалкое подобие оных. Но и оно теперь на веки вечные застыло в бесконечных сожалениях.
Еще одна мысль. Если вспомнить о боли, то перед глазами всплывает одно лицо, столько лет бывшее ее причиной, в голове всплывает одно имя, которое иначе он легко бы забыл…
– Где Пенелопа? – требовательно спрашивает он. – Где жена этого человека?
– Она ушла вместе с женщинами, – отвечает Гайос четко и спокойно. – Ее нет.
– Она поднимет мятеж! Она соберет еще больше… больше своих женщин! Она умна, она…
– Вы собираетесь убить ее мужа, отца, сына, – сухо напоминает Гайос. – Думаете, после этого от ее ума что-нибудь останется?
Эвпейт открывает рот, готовясь завизжать: «Да, да, ты ее не знаешь!» Но слова замирают на губах под взглядом Гайоса. Есть кое-что, думает он, чего тот не понимает. Не желает знать. И поэтому старик отводит глаза.
Ко всеобщему удивлению, именно Полибий пытается задушить царя Итаки.
Все время, пока собирался отряд и беседовали мужчины, он стоял, покачиваясь, губы его дрожали, и пальцы беспокойно шевелились. А теперь, словно терпеливое спокойствие Одиссея стало последней каплей, он кидается на итакийца, пытается его ударить, выжать из него жизнь по капле. Ему помогает отчаяние, отчаяние человека, лишившегося и сердца, и души; но он стар и слаб. Несколько людей Гайоса оттаскивают его от Одиссея прежде, чем старик успевает добраться до горла пленника, хотя и сами не понимают, зачем утруждались.
– Эвримах! – воет Полибий. – Эвримах! Его звали Эвримах!
Возможно, Одиссею стоило бы произнести эти слова, эти странные, новые для него слова, которыми он не успел овладеть полностью: «Мне жаль». Но нет. Они еще так свежи, так новы, что пачкать их, тратить их на врагов, на тех, кого он не считает достойными их тяжести, – этого он не сделает. Так что он, судорожно вздохнув, поводит плечами, крутит шеей, поудобнее устраивается на коленях, пересчитывая боли старые и новые, чтобы выяснить, не добавил ли чего Полибий, а затем устремляет взгляд в пустоту.
Так странно, думает он, наконец-то помолчать. Дать голосу роздых, освободить разум от планов и интриг. Но ничего неприятного.
Тогда он задумывается, почему не попробовал этого раньше, когда была такая возможность.
– Приведи нам мальчишку, – рявкает Эвпейт. – Приведи Телемаха.
Гайос кивает и зовет своих людей:
– За мной, к воротам, плотным строем, без барабанов.
Дан приказ – без барабанов, но не успевает он прозвучать, как над полем разносится звук удара дерева о натянутую кожу.
Гайос, вспыхнув от раздражения, ищет источник звука.
И снова: бу-у-ум!
На этот раз он понимает, что звук идет не из его лагеря и даже не с фермы. Он, скорее, звучит в отдалении, долетая сюда с ветром, сменившим направления с восходом солнца.
Бум!
Это боевой барабан, отбивающий царственный ритм. Он не зовет на битву и не командует отступление. Он одновременно и менее, и более значим – это уведомление о присутствии. Заявление, требующее всеобщего внимания.
Бум!
Гайос смотрит на Одиссея, но тот, хоть и связанный, едва не пожимает плечами. Его этот звук приводит в такой же ступор, как и остальных.
– Что это? – требует ответа Эвпейт. – Очередная уловка?
– Повернуться к дороге, – командует в ответ Гайос и, видя, что никто не торопится исполнять, добавляет: – Быстро!
Его люди разворачиваются, в то время как Одиссей ерзает в грязи, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь за частоколом ног.
Бьет барабан, и звук приближается. На ферме Лаэрта Телемах успел подняться на ноги и стоит, вытащив меч. Даже Лаэрт снова высунул нос из дома, поскольку любопытство победило привычку двигаться как можно меньше.
Бум, бум, бум!
Гул барабана разносится над взрытой, опустошенной землей, а за ним следуют и другие звуки: топот ног по сухой земле, звяканье металла, фырканье коней, голоса, одинокий зов рога.
Пыль появляется раньше людей; серая, сухая, она поднимается столбом над теми, кто сотрясает землю, заставляет содрогаться небеса. Пара солдат, отправленных следить за дорогой, возвращаются бегом, пламенея лицами, и что-то яростно шепчут Гайосу на ухо. Ветеран вздрагивает, но не теряется, тут же приказав:
– Замерли! Мечи не обнажать!
Когда над краем холма, с которого лениво стекает дорога, возносится прямоугольное знамя, его блеск на мгновение ослепляет. Золотой круг, вышитый крашеным конским волосом. На нем изображение лица с задумчивой улыбкой и чуть вытянутыми глазами, впечатляющие уши торчат по бокам круга, на котором оно изображено. В нем нет ни малейшего сходства с тем, о чьем присутствии оно должно оповещать, но, поскольку он уже мертв, вряд ли эта непохожесть имеет значение. Первым его узнает Гайос, а следом и те, с кем вместе он воевал под Троей.
Это лицо Агамемнона, выгравированное на золоте; изображение поднято ввысь воином в шлеме с гребнем и сверкающей броне, на которую, похоже, не осмеливается опуститься дорожная пыль. Далее следует колонна солдат, идущих по три в ряд, под звуки костяного рога и барабана из бычьей кожи, а над сверкающей поверхностью колонны возвышаются фигуры шестерых всадников, едущих на статных конях.
Четверо из шести держатся позади двух других, и мы можем перечислить их: старый Медон, ворчливый Эгиптий, горделивый Пейсенор и мудрая Урания. На каждом лучшие одежды, о чем весьма пожалеют их служанки, на которых ляжет обязанность очистить следы, оставшиеся после марша по холмам Итаки.
Две фигуры, едущие впереди, одеты с еще большей роскошью. Наряд Пенелопы позаимствован в одном из сундуков Урании, оттого немного широк в горловине и короток по подолу – но пока сойдет и так. Едущая рядом с ней на черном как ночь жеребце спутница компенсирует недостаток роскоши платья обилием золота и серебра, сверкающего на ее пальцах, запястьях, шее и голове. Ее диадема не отличается особой изысканностью, но для Итаки и она величественнее всех украшений самой знатной женщины. Барабан стучит, рог поет: едет Электра, дочь Агамемнона, дочь Клитемнестры, сестра Ореста; за ней марширует две сотни воинов, а рядом с ней царица Итаки.
Микенцы пришли.
С черными, как у матери, волосами и белой, как лунный свет, кожей, Электра поражает изяществом, даже миниатюрностью, а ее нежные пальцы и тонкие запястья, кажется, сломаются, стоит сжать покрепче. Не сломаются. Она не носит меч, хотя иногда у нее возникает искушение надеть его: просто чтобы понять, каково это. Для подобных вещей у нее есть брат, и ей не надо рядиться в мужские одежды, чтобы узнать, что такое власть.
Наездники осаживают коней шагах в пятидесяти от выстроенных рядами людей Гайоса.
Бой барабана стихает.
Острый конец древка, на котором плещется знамя с ликом Агамемнона, воткнули в землю, чтобы тот мог наблюдать за всем сверху.
Электра ждет, не слезая с коня, Пенелопа рядом с ней, мудрейшие из итакийцев за ее спиной. Она никуда не торопится. Смотрит, как ее воины расходятся веером, в две шеренги, образуя дугу, грозящую сойтись на войске Гайоса и разгромить его. И лишь после этого, едва заметно кивнув своим спутникам, она спешивается. Передает поводья своего коня воину, облаченному в алый плащ, быстро проверяет, не покосилась ли диадема на голове, разглаживает подол платья и протягивает руку Пенелопе, когда царица Итаки спускается на землю.
Пенелопа принимает предложенную руку.
Подобную картину теплой сестринской привязанности стоило бы изобразить на боку какой-нибудь амфоры. Две чистые, неиспорченные девы, вероятно отправляющиеся собирать фрукты или разливать сладкое вино, идут рядом в полном согласии.
А следом за ними с той же скоростью движутся две сотни воинов, чьи копья и щиты образуют за спинами дам сверкающий утес.
Они не выдвигают требований, не предупреждают, не испускают боевых кличей и даже не морщатся, увидев потрепанных мужчин, выстроившихся перед ними. Просто идут к рядам воинов Гайоса, словно тех нет, и, сказать по правде, их все равно что нет.
Гайос командует своим людям разойтись
Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 79