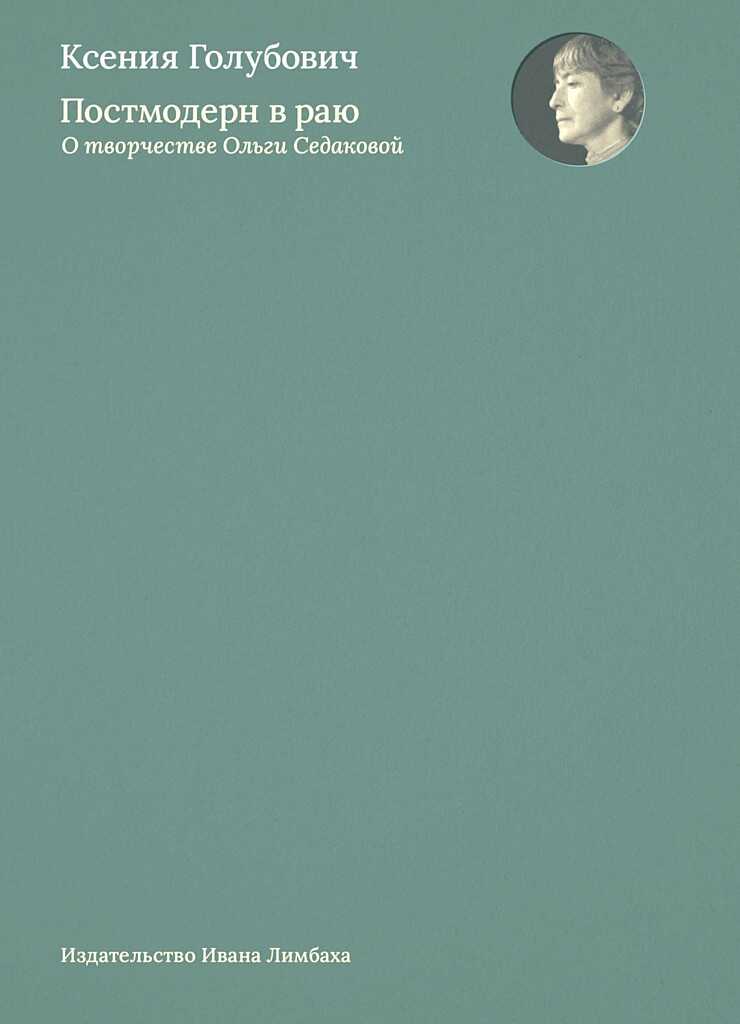среди самого «близкого», среди того, что рассеяло себя в страшный шум, надо идти на слух, как в лесу, надо учиться членить, находить дорогу, выживать, что в шуме есть путь и та даль, где встретится правда. И может, потому и скрыто от нашего слова его основание, что этой удаляющейся от мира жизни из-за самого этого удаления не пристала властность. Приход к ней чрезвычайно труден, домой, в самое далекое человек попадает совсем не скоро, и центральный свой опыт, который делает его абсолютно отдельным индивидом, он получает таким образом, что вернуться он больше никуда не сможет. Он станет «другим», вне «сообщества». Мистика близи сербов встречается с мистикой дали у русских.
45. Sur le tsar
У русских центральное место полноты смысла или полной речи постоянно избегает власти и использует власть для самоустранения, самоудаления (ведь и наша главная история – история «Бориса и Глеба», вообще отказавшихся от борьбы за власть). Его нельзя приблизить к себе и занять, оно превышает индивидуальные силы.
Это сказывается, например, в том, что, судя по истории с «русским царем» в Черногории, балканская история на порядок лучше, чем наша, обходится со своими самозванцами. В Сербии и Черногории царем может стать любой, даже безграмотный свинопас Караджорджевич, возглавивший в XIX веке восстание против турок и положивший начало царской династии. Здесь всякий на своем корне и всякий принадлежит общему эпическому пространству, которое укоренено в нем же самом. В России, где народ самое большее – на самом гребне волны – порождал Пугачева, такой безграмотный царь в сравнении с подлинным царем был бы просто колоритным разбойником, которого, беднягу, надо пожалеть. В России не может быть ни колоритности, ни народного царя. Индивидуал, опрокинувшись вовнутрь себя, не наполнит слова смыслом, потому что престол высокого, полного, ясного смысла, дома слов так высок, так далек, что никто своими силами, даже если сложить все силы народа, туда никогда не допрыгнет… только разве что, как у Гоголя в «Черевичках», на спине у черта. Центральное царское место, где хранится главный опыт человека, запредельно всему, оно служит мерой всему, без него распадается само понятие «русского», только им, этим центром, сие понятие держится, от него полностью зависит, но в отношении него каждый человек – это «вошь», «маленький человек». Такому человеку смешно даже было бы думать, что шум, который в ушах у него стоит, хоть как-то связан с лесом. Нужно нечто невероятное, чтобы такой человек смог войти в это коллективно удерживаемое внешне неясное, пустое, царское место, осилить его индивидуально, получить своим маленьким разговорным летучим словам тот недостающий корень, который сделает их полными, укрепленными в нем самом. Царское место такого корня страшно, невообразимо, грозно, – как хорошо почувствовал царь-мистик Иван IV. Там обитают такие смыслы, от которых, как от безумия и ужаса, человека рассеивает прахом по ветру, точно Гришку Отрепьева.
А вот расстояние между человеком и этой царской далью заполняется особой иерархией, именно она как бы удерживает центральное место смысла в удалении от «людей». Это чуть ли не китайская, почти кафкианская и уж точно гоголевская иерархия маленьких «никого», пустых, полых словечек-закорючек, переписчиков и заполнителей пустых бланков, письменных декретов, выстраивающаяся вокруг пустующего центра власти, как бы заочно подчиняясь его особенной топологии, делающей их полыми, государственными, письменными людьми. «Одно звание и есть, что на бумаге», – скажут про такого в народе. Никакой индивидуал от власти никогда не сможет настолько расшириться, чтобы занять то пустующее место, перед которым он – только буковка-букашка, письмоводитель, Акакий Акакиевич.
46. О литературе
Иными словами, индивидуальный человек в России виден с такой высоты или из такого далека, из которых его очень сложно дорастить до полной человеческой меры. В Сербии же его видят с такой близи, с которой до этой меры ему остается совсем немного – просто быть сербом.
Реализм дали, иронизирующий над любым пафосом и высоким смыслом, выстраивающий наши строки шаг за шагом, сквозящий в наших словах как мгновенный отсекающий от корня взмах, делает нас другими. Будто в каком-то шаманском полете, русские держат свои корни верхом к небу. Иначе говоря, «индивидуал», чтобы стать целостным, должен не стоять на корне, а взлететь, отказавшись от роду и племени, подняться на огромную высоту в отношении себя прежнего, увидев предварительно всю свою низость. Вот этой безродности, этой любви к небу, этого исповедания своей низости как требования полета и не понимают сербы в русских. И пространством исповедания низости и такого полета вверх является уже не изустный эпос, привязывающий человека к земле и людей друг к другу, а нечто иное, от земли отрывающее, – пространство авторской литературы.
Литература не что иное, как само наше же общее русское пространство, полное недораскрывшихся авторов. Восстановить высокий, подлинный или царский смысл вещей в таком пространстве – то же, что буквально полететь, преодолев расстояние уникальным событием, чудом, победой над ужасом. Так, чудом была лучшая русская литература – давшая пример сложнейшего синтеза индивидуальной души и народа, прозрения высокого и страшного дома смысла слов («вишневый сад», «медный всадник», «чайка», «война и мир»), схватывание вещей в глубочайшей зоне их невидимости и смешения, гораздо более затемненной, чем у сербов, гораздо более над-мирной.
Эта созданная письменная литература (не эпос!) хоть слегка приоткрыла, сколь много усилий требуется от отдельного человека, чтобы ему на своей государственной окраине стоять в отношении к высокому царскому месту, а еще больше – чтобы войти в него. На этой пережитой растяжке между никем, маленьким человеком-индивидуалом и Никем как Человекоцарем создается русский текст. Русский герой в основе своей – толстовский Иван Ильич, для которого полетели все цивилизационные смыслы, все личные и семейные ценности, кто испытал ужас, приближаясь к месту смерти, и наконец, войдя в него, видит, в чем счастье, в чем хорошая жизнь. Это человек, который видит, что все даже самое грубое вокруг него – хорошо и ничего в нем менять не надо, все, что было тусклым и темным, – царски увенчано. Он больше не жалок и не смешон, он – человек.
Такой индивидуальный далекий, отрешенный взгляд, который при этом видит не ничто, а именно творение, видит все, но видит все «легким», способным к полету, как это описывает Достоевский про князя Мышкина, синтезировать гораздо сложнее. Тут потребуется больше энергии. Русским сложнее увидеть свое главное, чем сербам, от нас это главное требует саморазрушения, а не самоукрепления. Вот почему Сербия и кажется проще, чем Россия, – во всех смыслах слова.