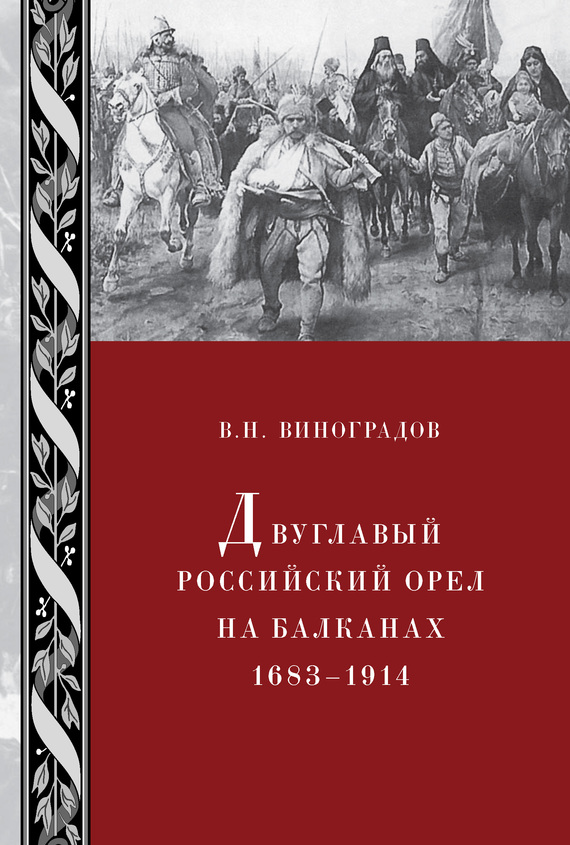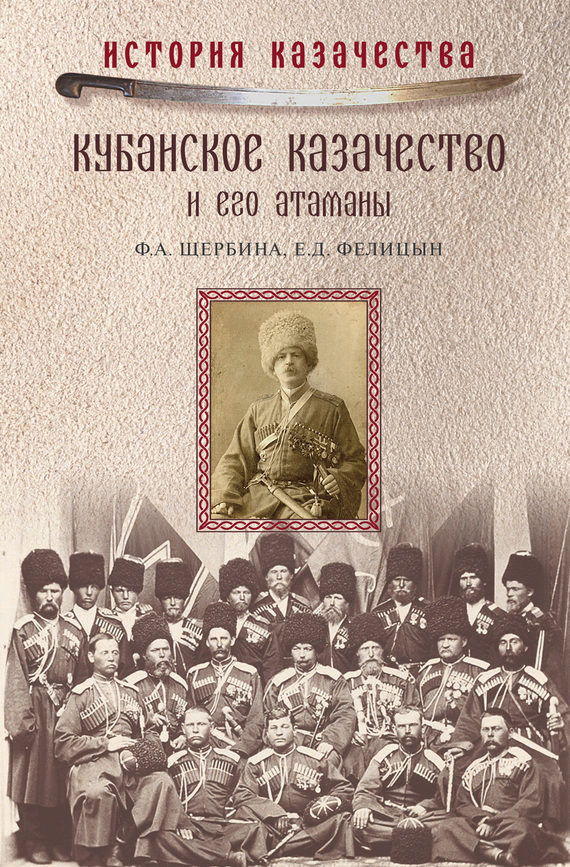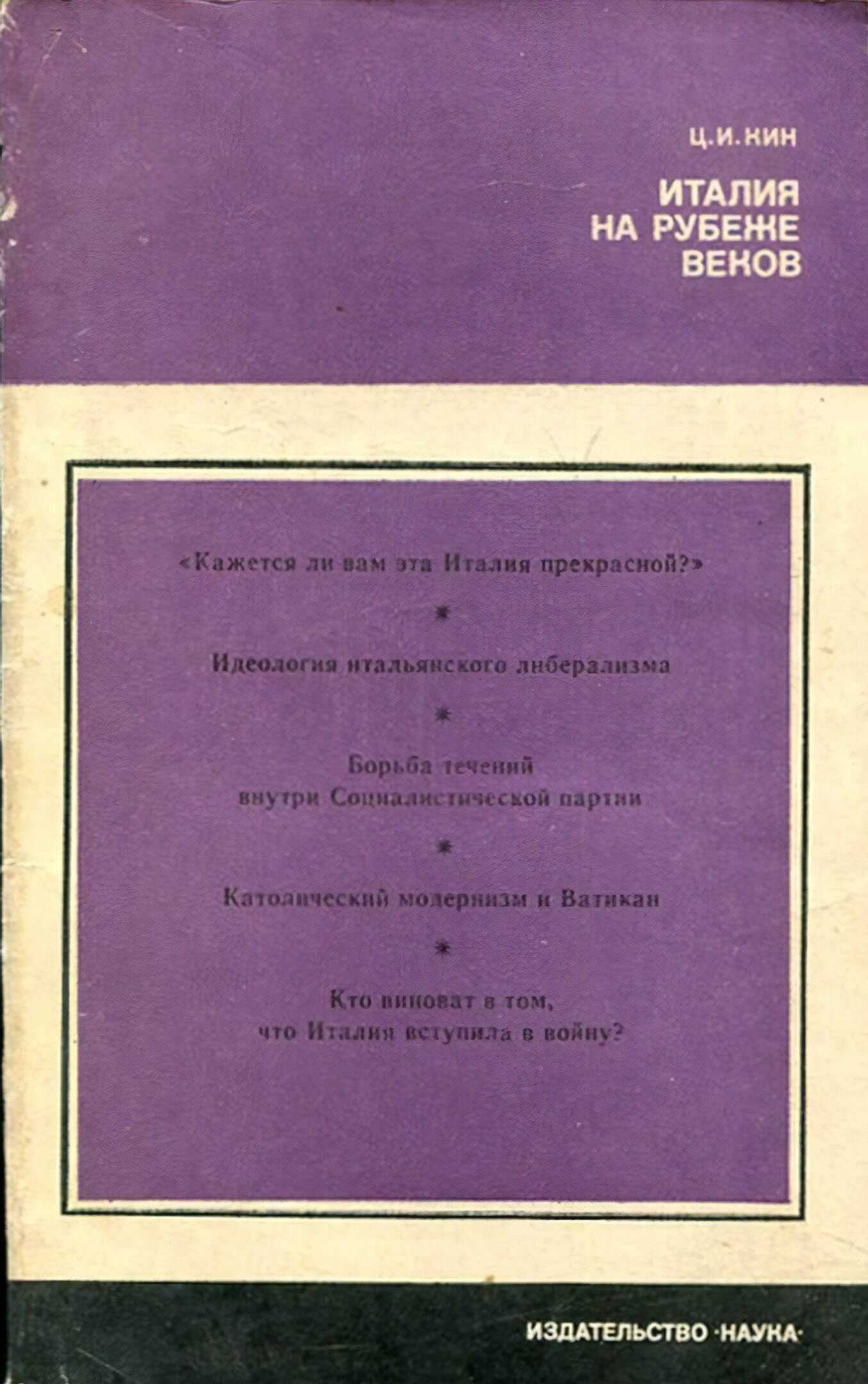в своей «Софонисбе», почитавшейся первой правильной французской трагедией. Есть что-то роковое в том, что трагедия, писанная по правилам, непременно должна начаться скучной Софонисбой! [15] В Италии этим правилам подчинились как непреложному закону, без всяких, насколько я знаю, споров, а стало быть, и без серьезного их обсуждения.
IV. Впрочем, по капризу причудливой судьбы те, кто защищал эти правила, на деле их не придерживался. Ибо, не говоря уже о некоторых нарушениях единства места, случавшихся в ряде итальянских и французских трагедий, именовавшихся правильными, следует заметить, что и единство времени не соблюдали и не толковали буквально: то есть не ставили знака равенства между фиктивным временем, приписываемым действию, и реальным временем, занимаемым представлением. Едва ли во всем французском театре найдутся три или четыре трагедии, которые выдерживают это условие. «Поскольку (говорит один французский критик) крайне затруднительно сыскать сюжет, который бы уместился в столь стеснительные пределы, то правило единства времени расширили до двадцати четырех часов» [16]. Делая подобную уступку, авторы трактатов тем самым признают вред правила и, стало быть, фактически лишают его смысла. Можно, конечно, спорить о том, должно ли действие выходить за пределы времени, занятого представлением, но кто сам отказывается от этого условия, как может требовать он от других, чтобы те придерживались сих произвольных ограничений? Что можно сказать критику, который считает, что допустимо толковать правила расширительно? Тут, как и во многих других случаях, разумнее требовать большей категоричности. Есть сколько угодно доводов в пользу освобождения от этих правил; но нельзя найти ни одного в пользу ослабления правил для тех, кто желает им следовать. «Желательно (говорит другой критик), чтобы фиктивная длительность действия ограничивалась временем спектакля; но надо быть врагом искусства и радости, которую оно несет, чтобы предписать ему законы, коим оно не может следовать без того, чтобы лишиться полезнейших своих средств и самых редких красот. Есть счастливые вольности, которые публика молчаливо прощает поэту при условии, что эти вольности пойдут ей в радость и душевное удовольствие; к числу таких вольностей относится условно-лукавое увеличение реального времени театрального действия» [17]. При всем уважении, которое я питаю к Мармонтелю и к достойнейшему его произведению, откуда взята вышеприведенная цитата, замечу, что выражение «счастливые вольности» применительно к литературе вряд ли имеет смысл; оно просто и понятно — как и многие подобные же выражения в прямом, обыденном своем значении, но как метафора заключает в себе противоречие. Обычно вольностью называют то, что противоречит предписанным правилам. И в этом смысле они могут быть счастливыми постольку, поскольку им может сопутствовать успех. Это выражение было перенесено в грамматику, и там оно оказалось на месте, учитывая, что грамматические правила, являясь условными и, следовательно, подверженными изменениям, могут быть нарушены писателем для того, чтобы выразить свою мысль яснее; но в области прекрасного дело обстоит иначе. Там правила должны быть основаны на природе искусства, они должны быть необходимы, непреложны, независимы от воли критиков, должны быть найдены, а не созданы, и, следовательно, их нельзя нарушить, не нарушая сущности искусства.
Но к чему столько рассуждений о двух каких-то словах? А к тому, что именно в этих двух словах заключена ошибка. Когда держатся ошибочного мнения, то его обычно стараются доказать с помощью метафорических и двусмысленных фраз, верных в одном смысле и ложных в другом; ибо фраза ясная сразу бы обнаружила противоречие. Для того чтобы вскрыть ложность данного мнения, достаточно указать на его двойной смысл.
V. Наконец, эти правила мешают созданию многих красот и вызывают множество неудобств.
Я не считаю нужным доказывать примерами первую часть своего утверждения: это убедительно делалось уже не раз. Выводы из самого поверхностного рассмотрения некоторых английских или немецких трагедий напрашиваются с такой очевидностью, что даже многие сторонники правил вынуждены были с ними согласиться. Они признали, что если не связывать себя заранее ограничением места и времени, то можно создать вещи, несравненно более разнообразные и сильные; они не отрицают красот, достигаемых при отступлении от правил, но утверждают, что от красот этих следует отказаться, поскольку для их достижения приходится жертвовать правдоподобием. Так вот, если согласиться с этим возражением, станет ясно, что неправдоподобие, которого столь опасаются, может стать ощутимым лишь в спектакле, и что поэтому трагедия, предназначенная для сцены, не может достичь степени совершенства трагедии, являющейся по существу поэмой в диалогах, и предназначенной для чтения наравне с любым иным повествованием. А раз так, то всякий желающий извлечь из поэзии все, что она может дать, неизбежно должен был бы предпочесть этот второй род трагедии. Перед выбором: что предпочтительнее — материальное действие или сущность поэтической красоты, кто стал бы сомневаться? И конечно, менее всего критики, полагающие, что греческие трагедии никогда не были превзойдены новыми, что они производят высочайшее поэтическое воздействие. Хотя известны они нам только в чтении. Я не хочу этим сказать, что пьесы, не соблюдающие единств, становятся неправдоподобными на сцене; просто я хотел дать почувствовать, чего стоит сам исходный принцип.
Неудобства, вытекающие из необходимости придерживаться двух единств, особенно единства места, признаны самими критиками. Однако кажется невероятным, что неправдоподобия, встречающиеся в драмах, построенных согласно правилам, так покорно принимаются теми, кто требует соблюдения правил с единственной целью добиться правдоподобия. Я процитирую только один пример подобной покорности с их стороны: «В «Цинне» потребовалось, чтобы заговор состоялся в комнате Эмилии и чтобы Август явился в ту же комнату, дабы смутить Цинну и даровать ему прощение: все это не очень естественно». Неудобство очевидное, и в нем искренно сознаются. Но оправдание дается странное. Вот оно: «Потребовалось!» [18]
Может быть, здесь излишне многословно настаивалось на вещах, очевидных для всех, могущих показаться даже банальными. Но я напомню слова, сказанные по аналогичному случаю одним из известных писателей. «Нет большой беды во всем этом ошибиться; но еще лучше по возможности не ошибаться вовсе» [19]. И тем не менее я считаю, что вопрос этот является в некотором смысле существенным. Банальной бывает лишь чистая ошибка. Все, что относится к искусству слова и к различным способам воздействия на мысли и чувства людей, по своей природе связано с чрезвычайно важными вещами. Драматическое искусство можно встретить у всех цивилизованных народов. Одни считают его мощным средством совершенствования людей, другие, — мощным средством развращения, но никто не считает его безразличным. Ясно одно, что все, что стремится приблизить или отдалить его от истины и совершенства, будет препятствовать или направлять, увеличивать или уменьшать его влияние.
Эти последние соображения побуждают задаться вопросом, уже