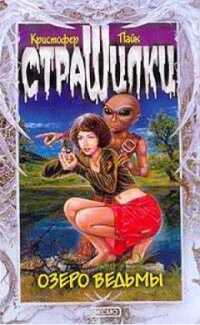сектантскую концепцию:
– В общем, наши потомки, мигранты во времени, живут вместе с нами, доведенные до слабоумия, опустившиеся на животный уровень. Но изредка в какой-нибудь обезьяне вдруг просыпается генетическая память, открывается разум и его сверхспособности. Тогда начинает обезьяна искать способы, как вернуть сородичей в нормальное состояние, чем бы на них воздействовать. Говорят, что инициатива создания этой африканской секты принадлежала обезьянам. Парочка таких пробудившихся обезьян, стряхнувших с себя врожденный идиотизм, нашла людей, готовых помочь, и организовала из них секту. Ну, рассказали им про себя, продемонстрировали кое-что. Так секта и возникла. Занимается она именно этим – пробуждением обезьян, ментальной реабилитацией. Для этого целая система ритуалов разработана. Но проблема в том, что искусственные способы пробуждения не дадут эффекта без последнего – самого радикального – способа, сожжения. Говорят, что обезьяна, после всех воздействий на нее, пробуждается лишь в момент сожжения и, когда горит заживо, то на короткое время, пока корчится в огне, становится разумна, и высшие способности к ней возвращаются. И вот, от такой пробужденной обезьяны остается этот прах, – дядя притронулся к стоявшему на столе африканскому сосуду, – для которого изготовляют урны всяких замысловатых форм и продают их вместе с прахом. Считается, что иметь такую урну в доме – к счастью. Как бы благословение нисходит.
– Фигасе! – восхитился папа. – Такую байду развели, чтоб сувениры продавать! Прям Герберт Уэллс какой-то с морлоками! А какие, кстати, обезьяны?
– Что – «какие»? – не понял дядя Леша.
– Над какими обезьянами эта секта опыты ставит? Что за вид? Павианы там, гиббоны, макаки? Или что?
– Они с разными обезьянами работают. Вот этот прах конкретно – бонобо, самая маленькая из человекообразных обезьян. Черненькая такая, меньше метра ростом. Короче, не мог я пройти мимо и не купить эту урну. Так лихо все завернуть – это ведь надо постараться! Когда тебя обманывают артистично, с фантазией, и фантазия-то с каким размахом, то удержаться невозможно, рука сама тянется деньги отдать, – говоря это, дядя щурился от удовольствия. – В принципе, все наше искусство на том и стоит – на качественно поданном обмане. Все готовы платить за обман, лишь бы был красиво сварганен. Как это там… вот это вот… «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Да и потом, сделана-то штукенция со вкусом.
«Штукенция» была действительно хороша. Ее инопланетно-потусторонние формы так и притягивали взгляд. Подолгу глядя на нее, поставленную на полку шкафа, за стекло, Костик начинал чувствовать нечто вроде легкого опьянения.
А однажды, когда у него разболелся зуб, Костик, словно по наитию, достал урну из шкафа, лег с нею в постель, обнял ее, как маленький мальчик – любимую игрушку, и лежал, поглаживая пальцами изгибы полированной поверхности. Вскоре он умиротворенно заснул, даже не поняв, что зуб-то и вовсе перестал болеть.
В ту ночь к нему пришло первое «обезьянье» сновидение.
Не похожее на обычные сны, оно было логически четким, внятным, без той абсурдности, что свойственна ночным грезам. Костик увидел обезьяну – почти сплошь черный силуэт с блестящими в полумраке глазами. Комнату во сне освещал поток лунного света, падавший из окна. Обезьяна сидела на краю дивана, на котором спал Костик, но сидела не по-обезьяньи, а как человек – одну ногу свесив с дивана на пол, другую же подогнув под себя. В руках она держала урну с прахом.
Костику стало жутко смотреть на эту безмолвную сгорбленную фигуру, почти два метра ростом, в которой чувствовалась опасная звериная сила, готовая в любой миг высвободиться, как энергия сжатой пружины.
Обезьяна заговорила, но это был непонятный, нечеловеческий язык, похожий на звуки какого-то механизма; слышались щелчки, потрескивания, гул и как бы скрежет металлических деталей.
В какой-то момент в этой речи прорезался второй голос, наложившийся на первый, как в каком-нибудь фильме, где слова переводчика накладываются поверх оригинального звука. Этот второй голос был человеческим, и Костик не смог понять: то ли он слышит его из обезьяньих уст, то ли прямо у себя в голове.
«…все это так сложно, если б ты знал! – Первая фраза не имела начала, лишь окончание. – Всех до одного не восстановишь, кем-то придется жертвовать. Первый ритуал – это выбор изначального вектора. Двух обезьян запереть в клетку и под гипнозом заставить их пожрать друг друга. Не из голода, нет! Поэтому хорошо кормят, чтобы каждая была сыта, а пожрала другую только из ненависти. Этот ритуал символичен, ведь надо начинать с ненависти к звериному тропосу существования. Возненавидь бессмысленное животное в себе и пожри его в другом! Из двух в той клетке живым остается один – тот, в ком ненависть сильней. Обезьяна, пожирающая другую обезьяну, делает шаг за пределы, которыми ограничена, и превращается в шаммакх. Вот начало прорыва».
Слушая эту речь, Костик пережил видение – словно бы всплывшее из глубин памяти визуальное воспоминание. Он видел одновременно и обезьяну, сидящую на его постели, обрамленную по контуру полоской лунного света, и смутную картинку из прошлого, только не из собственного – из чужого.
Помещение, слабо освещенное лучом, падающим сквозь небольшое отверстие в потолке. Клетка в виде куба с длиной ребра около двух метров. В клетке пара обезьян. Обе они маленькие, гораздо ниже ростом, чем та, что явилась к Костику для разговора.
Несколько человек вокруг клетки наблюдали за обезьянами. Кто стоял, кто сидел на циновке, скрестив ноги. Точка зрения все время менялась: Костик словно бы вселялся то в одного человека, то в другого, глядя на происходящее разными глазами. Внезапно его взгляд перенесся в одну из обезьян, и липкий тошнотворный жар ненависти прихлынул к голове. Тогда Костик, задыхаясь от жара, вместе с обезьяной, чьими глазами смотрел, бросился на вторую обезьяну и впился зубами ей в глотку.
В следующий миг он следил за происходящим глазами человека, сидевшего на циновке, и вместе с ним произнес какую-то зловещую фразу на непонятном языке и почувствовал, как эта фраза чернилами растекается по воздуху, опутывает борющихся обезьян призрачными щупальцами, одну из них приводя в бешенство, а другую парализуя ужасом.
Брызги обезьяньей крови упали на лицо человека на циновке, и жестокая улыбка искривила его негритянские мясистые губы.
Среди наблюдателей была пара – мужчина и женщина, они держали друг друга за руки. В тот момент, когда одна обезьяна вгрызалась другой в глотку, эти двое прижались теснее, их губы слиплись в жадном поцелуе. Глаза при этом косили в сторону, не теряя из виду обезьян. Взгляды влюбленных прямо сочились похотью, и Костика передернуло: что-то тошнотворно мерзкое было в этой парочке.
В следующий миг он увидел отчасти обглоданный труп обезьяны и вторую обезьяну, сидящую над ним с окровавленной мордой. В ее глазах Костику почудилось что-то человеческое, словно разгоравшаяся искра какой-то абстрактной мысли. Из наблюдателей у клетки оставался только мужчина на циновке.
Видение исчезло. Обезьяна, сидевшая у Костика на постели, произнесла:
«Первый ритуал намечает вектор ментального движения. Когда мертвая обезьяна неподвижна, то живой шаммакх движется вглубь себя».
Шаммакх – понял Костик – так обезьяна называла саму себя в пробужденном виде. Когда он понял это, глаза обезьяны – глаза шаммакх – как-то по-особенному блеснули.
«Она, наверное, читает мои мысли?» – подумал он, и обезьяна произнесла своим двойным голосом:
«Ты для меня как помятый газетный лист – почти все можно прочесть. Только там, где складки, где сильно помялось, трудно читать, не все видно».
– Как тебя зовут? – спросил Костик.
И шаммакх тихо засмеялся. От этого смеха поползли мурашки.
«Чего захотел! – отсмеявшись, произнесло черное существо. – Имя ему подай! Это вы, человечки убогие, держите имена на виду, потому что ничего не понимаете. Вы же не знаете, в каком мире живете, что вас окружает. Нельзя в таком мире жить нараспашку, держать имена открытыми. Вы гениталии свои прячете, а имена у вас наружу. А надо бы наоборот. Но кому я говорю! Ты же элементарного не видишь».
С той ночи Костику часто снились сны, в которых он разговаривал с обезьяной. Ее высокомерный презрительный тон казался ему обидным, но он терпел, потому что слишком уж интересно было слушать ее двойной голос, рассказывающий такие захватывающие вещи, от которых кругом