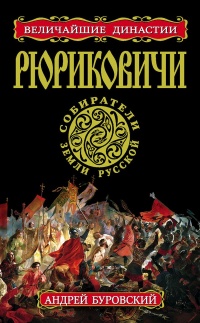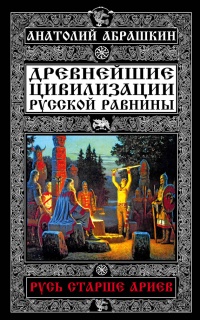— Рождество Твоё, Христе Боже наш, Возсия мирови свет разума: В нём бо звёздам служащий, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, И Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе...[82]
Серебром разливались, хрусталём звенели в морозном воздухе, в тихой ночи их чудные голоса. У кого было не пусто в тайнике, пекли овсяные блины. Надевали на святки рожу, ходили с вертепами и со звездой, славили Христа. Затевали святочные игры. Смотрели на небеса — тёмные ли Святки, светлые ли? Вспоминали приметы — уродится ли горох, уродится ли хлеб, будут ли молочные коровы, будут ли ноские куры, не разгуляется ли слишком зима?.. И повсюду гадали. И ходили по домам наряженные, по святочному обычаю колядовали. Затягивал у ворот, у дверей детский задорный голосок: «Я маленький хлопчик, принёс Богу снопчик, Христа величаю, вас со святам[83] поздравляю!» Едва «хлопчик» уходил, подтягивался хор: «Коляда, коляда! Подавай пирога, блин да лепёшку в заднее окошко!»; а то девушки выводили нежно-ангельскими голосами: «Подайте коровку — масляну головку: на окне стоит, на меня глядит» или «Подайте блинка — будет печь гладка!..»
И Красивые Лозняки стороной не обходили. Знал народ, где ещё можно чуток покормиться в голодные времена; помнил народ, что Ланецкие никогда не бывали скупы, в святочной подачке никому не откажут; от себя отнимут, другим дадут, голодного одарят, нищего приветят, честь сберегут. И не ошибался народ: подавали, была печь гладка; не репкой, не редькой и луком встречали колядчиков, а сладким пряником и пирогом, масляным блинком да душистой лепёшкой, сушёными ягодами и мочёными яблоками, кого квасом угощали, кого уваживали пивом, а кого и водкой одаривали. Весьма широкую тропку протоптали ряженые в снегу. Да не одну: и от Рабович тропка была, и от Улук. И по ним из других ещё тянулись деревень.
Как-то в одну святочную ночь вышел на тропочку Винцусь. Как всегда, предоставленный самому себе и занятый своими делами, многие из которых иначе и назвать нельзя, как причудами скучающего юного паныча, хотел он в одиночестве, без помех, полюбоваться на святочное небо и, может, собственных примет в нём поискать. Именно для этого отошёл он от жилья, от усадьбы с освещёнными окнами, чтобы свет не мешал. И стоял он посреди тропы, и дивился на роскошное звёздное небо, на серпик месяца золотой, поднявшийся высоко над лесом.
Вдруг услышал Винцусь скрип снега позади себя. Оглянулся — это кто-то возвращался в Рабовичи из усадьбы. Присмотрелся Винцусь. Ночь хотя и светлая была, ясная, звёздная, а не видать — кто шёл. Тёмное пятно двигалось на тропе. Только и слышно: скрип да скрип, скрип да скрип... Потом услышал Винцусь девичьи голоса, а за ними и смех. Когда ближе они подошли, разглядел в свете звёзд — две девушки это были. Видно, из Рабович они приходили колядовать. И, похоже, повезло им, несли вдвоём котомку: перепало девушкам немало гостинцев.
Хоть и шляхтич был наш Винцусь, хоть и честь была ему дороже жизни и имя шляхетское должен был он с гордостью нести и хоругвью поднимать его над собой, над своей судьбой, над своими поступками, но из вежливости и по доброте христианского сердца отступил Винцусь на шаг с тропы, чтобы девушки эти простые, крестьянские, могли пройти... Узнав его, они попритихли, даже как бы головы опустили в скромности, в положенном к господину почтении, и уж вроде прошли мимо, но вдруг обернулись, засмеялись разом, будто сговорились, и набросились на Винцуся, и повалили его в сугроб...
Юный шляхтич наш и опомниться не успел, как одна из девушек уселась ему на ноги, а другая, заливаясь смехом, навалилась на грудь и ну давай его целовать... Он было стал сопротивляться, хотел её оттолкнуть. Ведь ужас как не любил Винцусь, когда его целовали — да ещё в губы. Как-то сестрица его поцеловала так, и он в расстроенных чувствах всё вытирал себе губы рукавом да сторонился её с полдня. А тут...