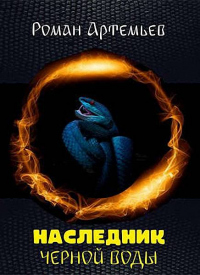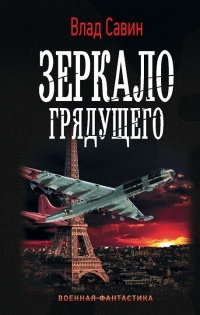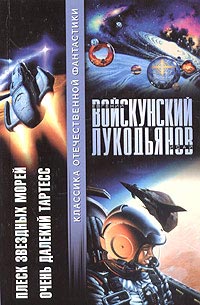…А ещё говорят, что за Смоленской площадью, между Денежным переулком и Плотниковым, есть дворик с липами – точъ-в-точъ как в старой Москве.
Под окнами там стоит только одна машина – красная «Победа»; перед подъездом – лавочка, наискось – песочница и деревянные качели. Асфальт вспученный, и через трещины лезет сизоватая трава. Иногда во двор ненадолго забегают дети – поиграть в классики.
И говорят, что если напроситься в игру…
После этого сна Сашенька всегда просыпается со сладким щемлением в сердце. Одной в такое время ей быть просто невозможно. Она собирает корзинку, робко пряча тот самый сон где-то между чайником с липовым настоем и вчерашним смородиновым пирогом. Затем, прихрамывая, поднимается на этаж выше и звонит. Если очень постараться, можно сделать вид, что она так, без причины, заглянула чаёк с подругой попить.
Но Варьку на мякине не проведёшь.
– Проходи, что ли, – вздыхает она. Взгляд – одновременно сочувствующий и строгий. – Давненько не виделись.
Варька моложе на три года и умнее раз в десять; у неё угрюмое лицо и ловкие пальцы. Варька вяжет умопомрачительные шарфы из яркой пряжи и продаёт их через компьютер.
И разбирается в нём, ей-ей, ловчее собственной внучки.
– Ничего, что я так?… – Сашенька тушуется.
Но Варька уже берёт её под руку и ведёт на кухню. Не слушая возражений, достаёт из холодильника батон «докторской» колбасы, красную рыбу и ещё Бог весть какие деликатесы.
– Угощайся. – Тон извинительно-просительный, словно ей стыдно за свой достаток. – И рассказывай. Что глаза-το опять на мокром месте?
– Да вот, нагородилось под утро… – уклончиво отвечает Сашенька – а потом как захлёбывается словами, и говорит, и говорит, сбивчиво и бесконечно, пока не остывает окончательно липовый чай.
Варька слушает всегда как в первый раз и кивает:
– Классики, значит? И кто до конца допрыгает, тот сможет вернуться, куда захочет?
– Вернуться, когда захочет, – поправляет её Сашенька, зардевшись. Уж больно глупо звучит, но Варька не смеётся.
– Мне-то и здесь хорошо, – говорит она ровно, оглядывая солнечную кухню, и клубки шерсти на комоде, и внучкины фотографии, и пыльную набережную за окном. – А ты-то чего не сходишь, не проверишь? Вдруг там и правда есть эти самые дети с классиками?
После её слов Сашеньке всегда делается так головокружительно страшно, что она крепко до онемения прижимает к себе костыль и шепчет:
– Там прыгать надо… По клеточкам… Как я, со своей-то ногой?
Варька сердито звякает ложкой о край чашки и смотрит в сторону. На прощанье она суёт в руки Сашеньке то целое блюдце клятой дорогущей колбасы, то пачку вкуснющего чаю…
Сашенька не берёт, но просит на днях зайти в гости.
Но этим летом всё по-другому.
Ещё весной, в апреле, Сашенька попадает в больницу. Сначала Варька навещает её часто, носит апельсины и курагу, терпеливо слушает рассказы – даже те, что давно наизусть знает. И про поездку на Байкал, и про бесценные Сашины книжки, и про университетскую библиотеку, и даже про то, как реставрационный отдел подло закрыли и всех работников, считай, на улицу выбросили…
Только про аварию напрочь отказывается слушать.
– В жизни всяко случается, – бурчит она. – Муж твой. Я вон вообще без отца без матери росла, и что?
Варька права, конечно; и сейчас, когда горе давно перегорело, Сашенька понимает, что нельзя было прятаться в уголке между родительской квартирой и реставрационным отделом, заслоняться книжками, трауром и жалеть себя. И где-то между мамиными похоронами и собственной пенсией была та страшная точка невозврата, когда хочется изменить жизнь – да уже не можется.