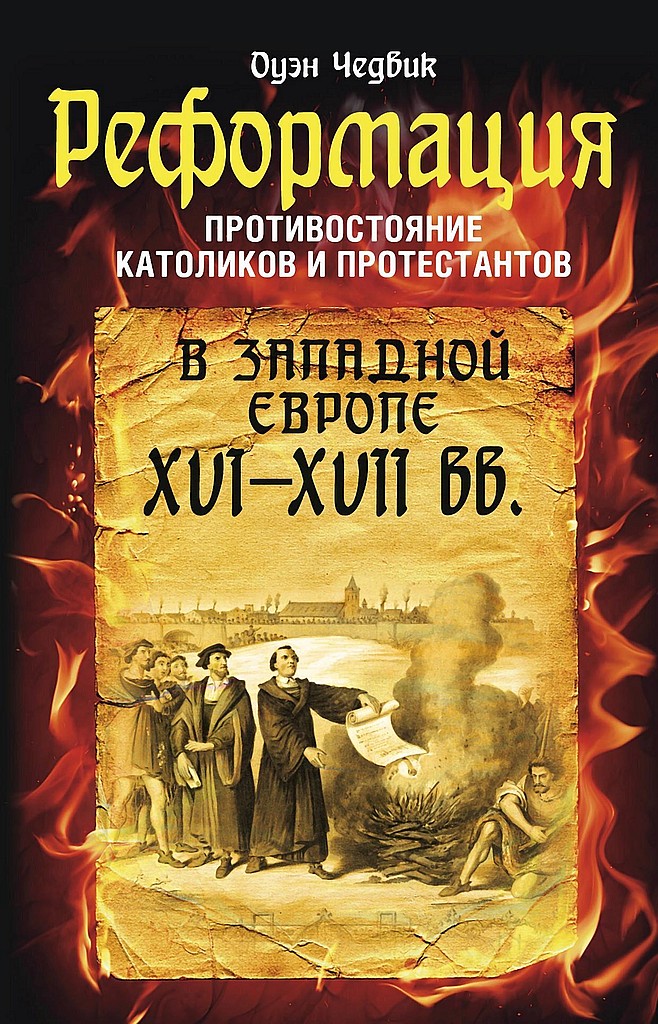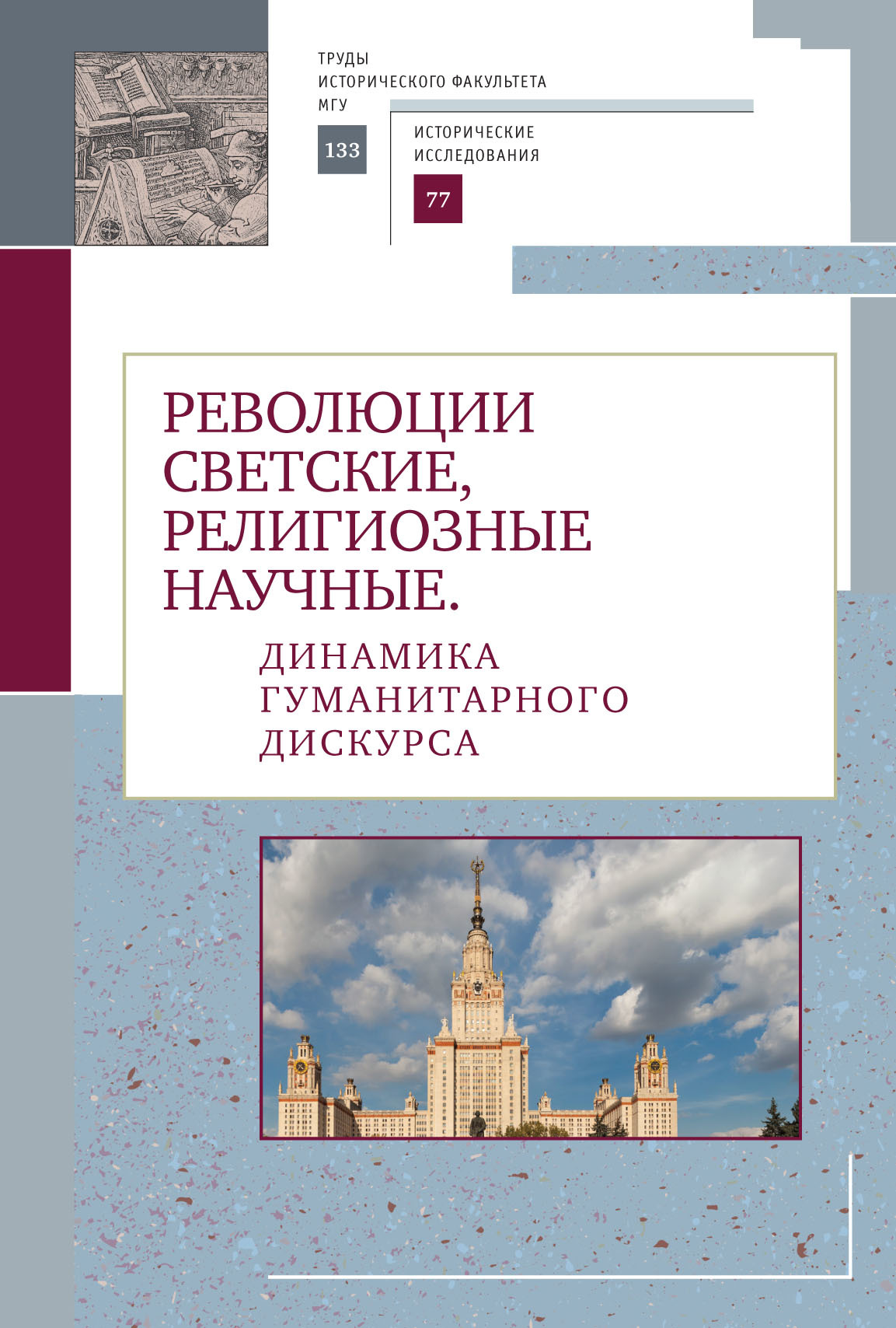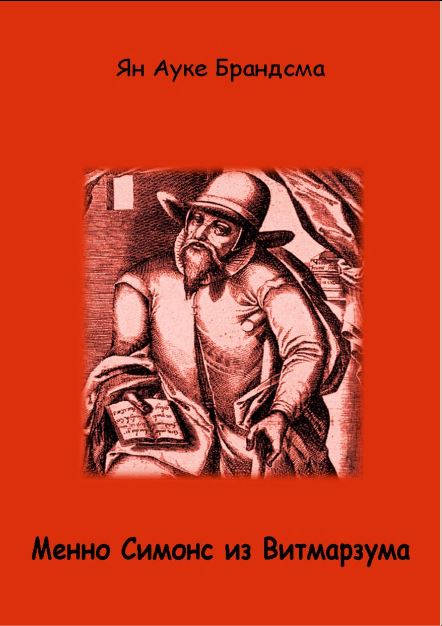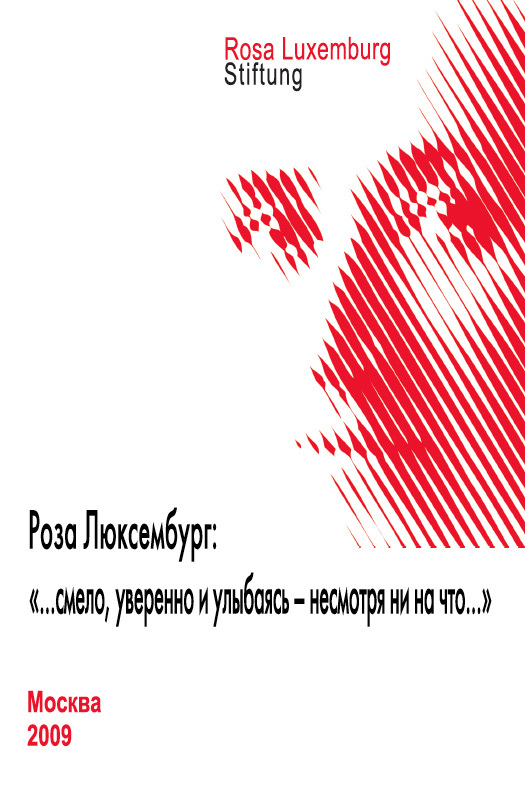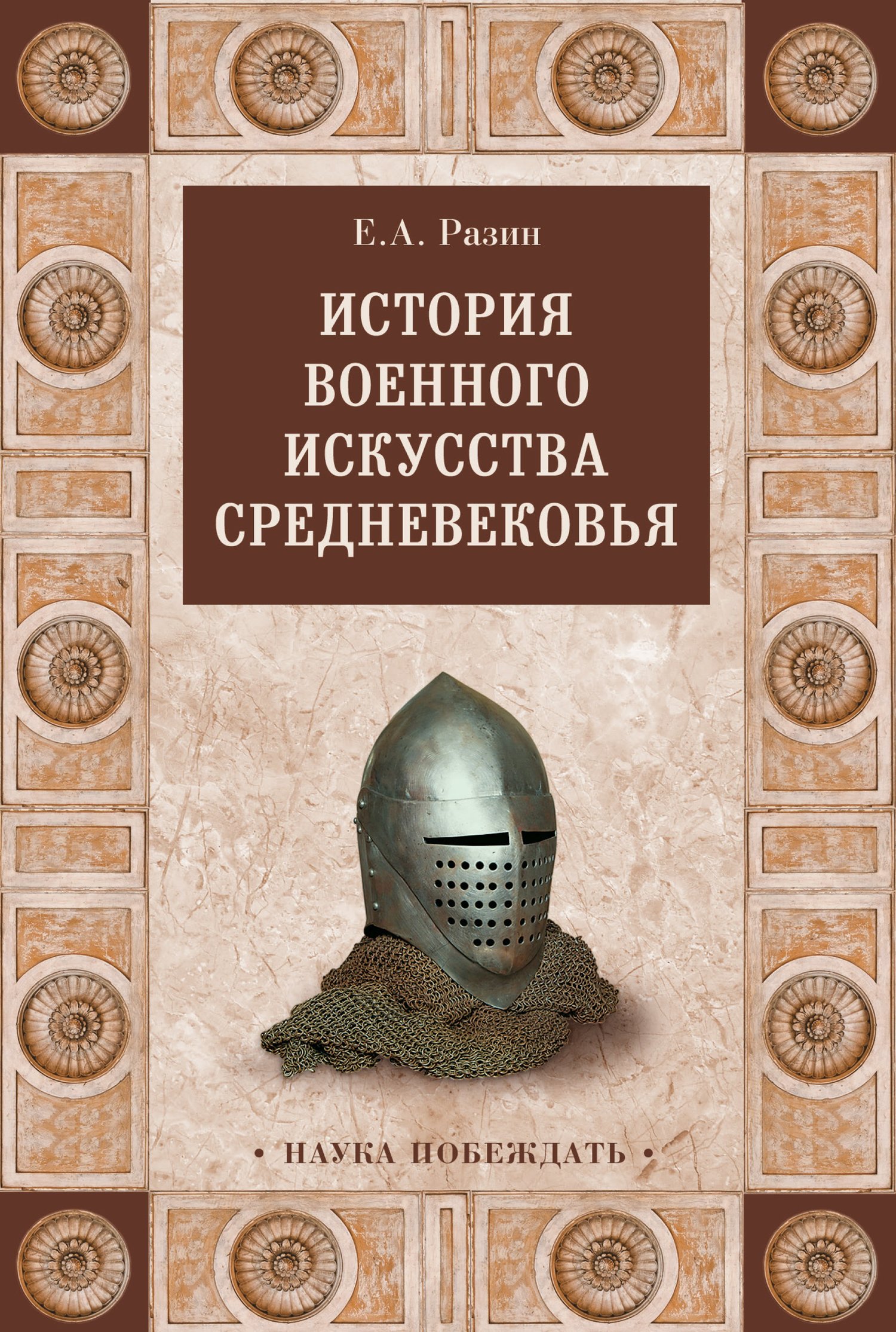мы отмечаем, что люди XVI столетия заботились в основном о проблеме греха и спасения, мы должны признать, что и сегодня люди также беспокоятся о том же самом, хоть и в иных смыслах и терминах. Несмотря на то, что «грех» больше не связан со смертью, тем более с геенной огненной, грех и вина являются важнейшими проблемами, из-за которых люди обращаются за помощью к психиатрам и психотерапевтам. С этим связан и поиск духовности и духовной стабильности. В последние десятилетия туроператоры и бывшие монастыри активно разрабатывают «духовный туризм» — нишу рынка, удовлетворяющую запросы клиентов, нуждающихся в побеге от стресса на работе или от психологического смятения. Сегодня, как и тогда, церковь не кажется успешно отвечающей запросам верующих, но многие продолжают смотреть на нее как на возможный путь в поисках внутренней стабильности. Впрочем, иногда кажется, что именно физическое пространство церкви приводит людей в больший трепет, чем ее идеология.
Ни Лютер, ни Кальвин, ни иной лидер Реформации не воспринимали Европу как место, кипящее полновесной христианской жизнью. Они признавали, что почти все европейцы были крещены, но делали вывод, что лишь небольшая часть их жила в соответствии со своим крещением. Они сетовали, что европейцы не являются настоящими христианами ни с какой из возможных точек зрения. Кальвин говорил о Europa afflicta[18] и еще при жизни пришел к выводу, что христианство в мировом масштабе — не только в Европе — было на краю гибели[19].
Сегодня он думал бы так же. Но сегодня надо спросить, является ли европейская церковь настолько же постхристианской, насколько постхристианским является европейское общество. За столетия, минувшие после Просвещения и его непосредственных последствий, произошли глубочайшие перемены в том, как крупнейшие протестантские церкви воспринимают Библию и Евангелие. Были ли эти перемены достаточно фундаментальны, чтобы сделать разрыв между сегодняшними протестантскими церквями и богословием XVI века непреодолимым? Трудно дать однозначный ответ. Если опять вспомнить Лютера, его трубный глас донесет до нас его видение церкви: «Церкви нужны лишь для того, чтобы Господь наш Иисус говорил с нами своим Божественным Словом, а мы в ответ говорили с Ним посредством молитв и псалмов»[20]. С формальной точки зрения эта функция сохранилась, однако вполне можно понять того, кто задастся вопросом, насколько суть происходящего в зданиях сегодняшней протестантской церкви была бы понятна Лютеру.
Когда на следующий день после 31 октября 2017 г. последний автобус покинул Виттенберг, что осталось в умах и сердцах тех, кто в 2017 году посетил памятные места, купил сувениры, прочел книги, принял участие в турах, или другим способом прервал свою повседневность для того, чтобы отдать дань 500-летней годовщине Реформации? Ответ, разумеется, зависит от мотивации. Если мы сохраним близость основному тезису лютеровской деятельности, ответ будет очевиден. Правильно организованное празднование (commemoration) Реформации 500 лет спустя после ее начала вполне способно оздоровить Европу. Соответствующие событию церемонии могут показать сегодняшней Европе некоторые стороны того состояния, от которого она произошла, а может быть, и того, к которому она стремится. Показать все это — задача исторического научного сообщества. Но если отрешиться от истории Реформации и ее воздействия на нас, что останется от ее богословского, экзистенциального стержня — должного отношения человека к Богу? Этот вопрос также нуждается в 2017 году в самом громком и широком обсуждении.
Перевод И. Е. Андронова
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Brady Th. A. German Histories in the Age of the Reformations, 1400–1650. Cambridge, 2009.
D. Martin Luther‘s Werke: kritische Gesamtausgabe /Weimarer Ausgabe/. Weimar,1883–2009.
Davie G. Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging. Oxford, 1994.
Graf F. W. Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur. Munich, 2004.
Hendrix S. H. Recultivating the Vineyard. The Reformation Agendas of Christianization. Louisville, KY, 2004.
Herminjard A.-L. Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française. Nieuwkoop, 1896.
Ioannis Calvini Opera Quae Supersunt Omnia, Ediderunt Guilielmus Baum, Eduardus Cunitz, Eduardus Reuss. Vol. 1–59. Brunsvigae, Berolinae 1863–1900.
Kolb R. Martin Luther as Prophet, Teacher and Hero. Images of the Reformer, 1520–1620. Grand Rapids, MI, 1999.
Lehmann H. Das Christentum im 20. Jahrhundert: Fragen, Probleme, Perspektiven (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen. Bd. 4: Neueste Kirchengeschichte. 9). Leipzig, 2012.
Lehmann H. Luthergedächtnis 1817 bis 2017. Göttingen, 2012.
Lindberg C. The European Reformations. 2nd ed. Chichester, 2010.
Mcleod H. The Religious Crisis of the 1960s. Oxford, 2007.
Pugh J. Religionless Christianity: Dietrich Bonhoeffer in Troubled Times. London, 2008.
Riesebrocht M. Die Rückkehr der Religionen. Munich, 2000.
Säkularisierungen in der Frühen Neuzeit. Methodische Probleme und empirische Fallstudien / Hrsg. M. Pohlig u.a. Berlin, 2008.S 9–109. (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 41).
Selderhuis H. Wem gehört die Reformation? Das Reformationsjubiläum 1617 im Streit zwischen Lutheranern und Reformierten // Calvinismus in den Auseinandersetzungen des frühen konfessionellen Zeitalters / Hg. H. J. Selderhuis, M. Leiner, V. Leppin. Göttingen, 2013.S 66–78.
The Decline of Christendom in Western Europe 1750–2000 / Ed. H. McLeod, W. Ustorf. Cambridge, 2007.
Witte J., Jr. The Reformation of Rights: Law, Religion, and Human Rights in Early Modern Calvinism. Cambridge, 2007.
М. В. Дмитриев
Почему Реформация остановилась на пороге православного мира?[21]
Название настоящей статьи навеяно частыми упоминаниями (а иногда — и ламентациями) о том, что Реформация, сыгравшая столь громадную роль в истории Запада и, особенно, в истории модернизации Запада, осталась феноменом, чуждым православным обществам, в том числе и православным обществам Восточной Европы (России и украинско-белорусских земель). Пример, который и подтолкнул дать именно ту формулировку названия, какая применена, — статья большого знатока истории Московской Руси Г. Штёкля[22]. Штёкль, не занимаясь специально собственно конфессиональной стороной дела, предположил, что факты отчуждения Реформации русской православной культурой нужно искать в области религиозно-политических идей[23]. Прав ли немецкий историк?
В исторической публицистике и, в значительной степени в исторической памяти и России, и зарубежных стран, часто встречается легковесно-удобное и отвечающее известному умонастроению утверждение, что всё дело или в «отсталости» России и православных культур вообще, или в «особом» пути развития России[24].
Нередко ставится и вопрос о сходствах и различиях староверия и протестантизма[25], и утверждается, что кризис раскола, при всех отличиях от Реформации, стал ее эквивалентом.
Существуют и специальные исследования, посвященные встрече России с Реформацией и протестантизмом, и тут изучены две стороны предмета: во-первых, проникновение протестантизма в Россию и в православные территории Речи Посполитой в их переплетении с локальными «еретическими» движениями той же эпохи[26]; во-вторых, антипротестантская полемика в русской и украинско-белорусской культуре[27].
Предмет настоящей статьи, однако, иного рода. Нас интересует,