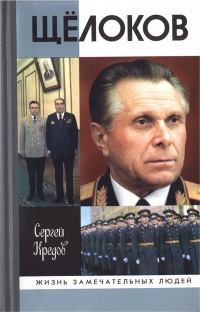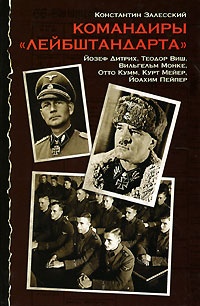Волею случая я назначен режиссером на Вашу пьесу… Благоволите сообщить, когда Вы предполагаете приехать в Москву и уделить мне некоторое время для работы над текстом. С глубоким уважением», и т. д.
Мне кажется, что через неделю, не больше, я вынул из почтового ящика открытку с киевским штампом. Я ее хорошо запомнил – написанную крупными, круглыми буквами, которые я потом узнавал с расстояния в несколько метров:
«Глубокоуважаемый Семен Львович!
Я приеду в Москву такого-то и буду рад встрече с Вами. Но только не для работы над текстом, который мне остое… Бог с ним! Может, хватит? Уже поработали над ним всласть… С глубочайшим уважением», и т. д.
Ну, подумал я, это будет трудный случай. Но хоть его открытка и обидно-откровенно пародировала мою, которая, кстати сказать, заслуживала этого, но была информативна и, главное, четко определяла наши позиции. Ладно, поглядим…
Как-то рано утром мне позвонили из театра и сказали, что автор приехал и бродит по фойе. Репетиции еще не начались, театр был пуст, только секретарша сидела уже на месте. Я помчался на Сретенку и заметался по лестницам – театр же в подвальном помещении – бывшая студия Завадского, Каверина… Моего автора нигде не было.
– Он небось во дворе, – сказал мне дежурный пожарный.
Я кинулся во двор.
Некрасов и вправду стоял на залитом асфальтом дворе и курил папиросу, разглядывая отвесную стену многоэтажного дома над театром.
– Здравствуйте, Виктор Платонович, – сказал я, задыхаясь от бега.
– Здравствуйте, Семен Львович, – сказал он, затянувшись «Беломором».
Он цепко всматривался в меня, потом ухмыльнулся:
– Значит, автор подглядывает жизнь в замочную скважину? А как же увидеть настоящую жизнь, если вам ее не показывают? А, хлопчик?
И что-то такое презрительное было в этом «хлопчике». Что-то такое неприязненное… Я никогда потом не слышал, чтобы он к кому-нибудь так обращался. И, откровенно говоря, не мог простить ему этого «хлопчика».
– Пойдемте, – указал я ему на ворота, ведущие на сцену.
Мы прошли через сцену. Посередине горела дежурная лампочка на штативе… В щели дверей сочился в партер тускло-зеленоватый, профильтрованный тьмой фойе и коридоров, откуда-то сверху проникший в театр уличный свет. Подвальный дух стоял в плохо проветриваемом низком зальчике.
– Это что, – спросил Некрасов, спрыгивая со сцены в проход, – здесь начинал Завадский? Я же до войны тут… Ну это знаменитое, с Мордвиновым… Тьфу, черт, как его?.. Шоу!
– Да, – сказал я, – «Ученик дьявола».
– Не знаю, – вдруг продолжил он, – понравился бы мне сейчас этот «Ученик дьявола». Сомнительно…
– Почему? – спросил я. – Говорят, был блестящий, настоящий театр.
– Игры было много… – Он подумал и добавил: – Всякой «фуйни-муйни»…
Вот так у нас и начался разговор, как теперь говорят, «по делу»…
А тем временем мы дошли до фойе, в котором обычно репетировали. Оно было наполнено серым пыльным воздухом, и пылинки явственно стояли в плоских зеленоватых лучах, перерезающих этот густой, неподвижный воздух.
– Мы что, здесь будем говорить? – спросил Некрасов и почесался.
– Можно зажечь свет. Или пойдемте в дирекцию. Или туда, где вы читали пьесу…
– Но там же проходной двор. Может быть, пойдем куда-нибудь? – глянул он на меня хитрым глазом.
– А куда?
– На Рю де ля Пэ.
– Куда? – переспросил я.
– Моя машинистка там живет и пускает нас с мамой, когда мы приезжаем в Москву. Там и переулок тихий. Плотников.