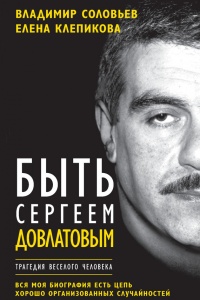У сонной вечности в руках.
Только искусство обладало волшебной силой противостоять забвению и небытию. В последнем панно, изображающем пробуждение принцессы, то есть собственно «возрождение» и даже воскрешение (илл. 38), Бакст поместил равеннские капители на витые соломоновы колонны и увенчал их полуциркульным карнизом. Он создал, таким образом, архитектурную раму, в которой альков с кроватью принцессы превращался в святая святых, а сама кровать – в ковчег завета. Это панно, изображавшее воскресающую к любви жизнь, интерпретировало тему Ренессанса в подлинно экзистенциальном и духовном смысле. Мы не можем не почувствовать, до какой степени такая трактовка темы была личной для художника. Удивительно, как близко напоминает это иконографическое решение последние слова из книги Мишле, посвященные эпохе Возрождения. «Пусть одно тебя лишь вдохновляет, что начинается эпоха человечности и всеобщего сочувствия. Человек стал, наконец, братом миру. То, что было сказано о предтече искусства – „он добавил добра“, – скажут о новом времени: оно добавило в нас добра… Вот в этом и заключается подлинный смысл Возрождения: в нежности, в доброте к природе. Выбор свободомыслия – это выбор человечности, сострадания. Наш великий доктор Рабле до такой степени не выносил крови, что даже не предписывал кровопусканий. Доктора Агриппа и Вейн защищали ведьм. Бедный книгопечатник Шатийон единственный защищал Серве и заявил будущему о великом законе толерантности. Леонардо да Винчи покупал птиц, чтобы их выпускать и радоваться зрелищу обретенной свободы. Маргарита, собирая на своей груди тех, у кого не было гнезда, основала в Париже первый сиротский дом»[828].
Вот на этом мы, пожалуй, и остановимся. Ведь неосуществленные планы[829], болезнь, госпиталь, смерть 27 декабря 1924 года от отека легкого, торжественные похороны, некрасивая серая могила на кладбище Батиньоль, раздел имущества ничего к нашей истории Льва Бакста не добавят.
Послесловие: Для русского читателя
Карл Ясперс писал о том, что историк работает не только головой, но и всем своим существом, и даже более того – всем своим бытием, которое включает и призму своей собственной истории. Хорошо это или плохо? Я думаю, что хорошо. Ведь это вовсе не значит, как считают представители деконструкции (а в этом они похожи на всех детерминистов), что историк всегда субъективен и только свою историю писать и способен. Это означало бы, что все историки – психически больные люди с полным нарушением границ собственной личности. Мне кажется, что историк может писать чью-то историю, как мы можем – и какое это счастье! – разговаривать с другим человеком, не навязывая ему своих мыслей, сохраняя способность слушать, но и желание и возможность выразить в разговоре себя. История – разговор с мертвыми. Но историк свободен выбирать, с кем ему разговаривать, и по принципу интереса, близости, и по тому, насколько он отчетливо слышит голос этой личности. А последнее тесно связано с тем, насколько сам этот давно умерший человек при жизни был заинтересован в том, чтобы вести разговор с потомками после своей смерти. Со Львом Бакстом мне было бесконечно интересно, и по ходу дела становилось все более понятно, о чем он хотел своей жизнью и своим искусством рассказать. И потому, что он был человеком блестящим, заинтересованным в будущем собеседнике и много сам о себе поведавшим. И потому, что он ставил и пытался теоретически и практически решать вопросы, которые мне интересны, которые я сама себе задавала и продолжаю задавать. В частности, вопрос о культурной территории эмансипированного, нерелигиозного еврейства, о роли в этой культурной географии символического материка под названием Греция. О роли в истории русской культуры «греческого» и о связи этого греческого с «иностранным», «французским». О том, что такое Возрождение. О культурной слабости и культурной силе. Я родилась в 1963 году в смешанной русско-еврейской семье, училась во французской школе, провела все детство в Пушкинском музее, где мне всегда было и хорошо, и страшно, потому что все эти гипсовые боги и люди были как живые. С тех пор прошлое меня не просто трогает, а хватает за руку. Я знаю, что я такая не одна, что нас таких много, и потому мне показалось важным, несмотря на то что я последние тридцать лет живу в Париже и являюсь французским историком и прозаиком, написать эту книгу по-русски, для русского читателя. История Льва Бакста так и не вышла в свет по-русски. В некотором смысле я попыталась это недоразумение поправить.