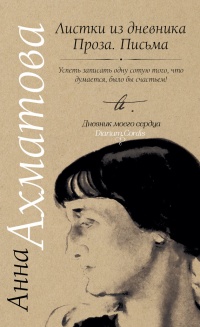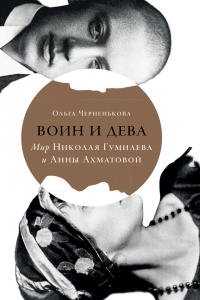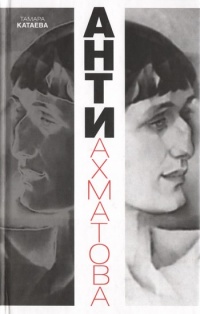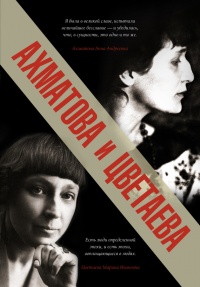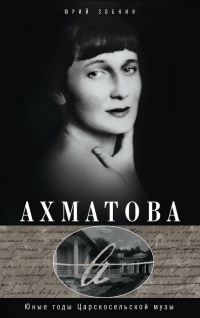И особенно, если снитсяТо, что с нами должно случиться:Смерть повсюду – город в огне,И Ташкент в цвету подвенечном…О безбольном, верном и вечном,Ветр Азийский расскажет мне.
Редкий эпитет «безбольный» отсылает к «Божественной комедии» Данте, одновременно переадресовывая к памяти о Гумилёве.
«Сном во сне» назвала Ахматова свою философско—эти—ческую трагедию «Энума элиш», фантастические действа которой развертываются на кромке сна и яви.
В 1963 году, приступив к театрализации «Поэмы без героя», Ахматова писала: «Сегодня ночью я увидела (или услышала) во сне мою поэму – как трагический балет. (Это второй раз, первый раз это случ в 1944 г.) Будем надеяться, что это ее последнее возвращение, и, когда она вновь явится, меня уже не будет… Но мне хочется отметить это событие, хотя бы в одном списке, что я и делаю сейчас» (Ахматова А. Собрание сочинений. Т. 3. С. 261).
Сны приходили и во время ее работы над текстами Пушкина. Э. Г. Герштейн записала одно из таких сновидений:
«Сновидение.
В самых последних числах мая 1951 года машина «неотложной помощи» доставила Анну Андреевну Ахматову в 5–ю Советскую больницу с диагнозом «предынфарктное состояние». В приемном покое она была еще на ногах – я с ней разговаривала. На следующий день, в воскресенье, я застала ее в изоляторе. Анна Андреевна лежала на спине, вытянувшись, молчаливая, с ужасной болью в груди. Меня она почти не узнавала.
Взволнованная медсестра что—то принесла и быстро побежала за дежурным врачом… Потом мы узнали, что именно в тот час произошел инфаркт миокарда – тяжелый, двусторонний.
Через несколько дней ее перевели в общую шестиместную палату. Анна Андреевна лежала у левой стены, на средней кровати и, по ее настоянию, лицом к окну, выходящему в сад.
Я все еще входила к ней с опаской. Но 5 июня (дата у меня записана) она обрадовала меня своим спокойным и веселым видом.
– А у меня здесь представление показывали, – произнесла она беззаботно. Я недоумевала. – «Каменного гостя». – Где?! – Там, – она указала рукой на окно, за которым ветви деревьев почти касались стекла. – Я теперь поняла, как надо играть и как надо говорить. Здесь все дело в Командоре. Монумент стоит на пьедестале, по бокам черного цвета, как бы два блестящих черных щита (она обрисовала руками), а посередине серый, переходящий в алебастровый.
Статуя может быть в двух вариантах. Один такой: очень грузный, большой человек. Знаете, бывают такие большие мужчины, с длинными усами, грубыми чертами лица, толстыми руками…
А другой вариант такой: тонкая длинная фигура уходит вверх так, что не видно головы. Голова упирается в небо и где—то там теряется.
– Этот вариант лучше, – говорю я.
– Как хотите.
И это вовсе не кладбище, а огромный купленный участок, никаких могил и гробниц здесь нет. А все актеры обычно тычут рукой и показывают, что здесь где—то похоронена «бедная Инеза». Это большой сад.
А Дона Анна должна быть вся в белом. Хотя у Пушкина и сказано: «под этим вдовьим черным покрывалом», но нам до этого дела нет. Здесь траур был белым.
– Ну а Дон Гуан какой? – спрашиваю я.
– Дон Гуана мне не показывали. Она помолчала.
– Но когда он говорит с Лепорелло, он гуляет по этому роскошному зловещему саду и нарочито говорит так, как будто здесь очень уютно и ничего особенного.
Придя домой, я сразу записала поразивший меня рассказ Ахматовой. Единственная запись, которую я себе позволила за все время нашего знакомства с 1933 по 1966 год. Когда, выздоровев, Анна Андреевна пришла ко мне, я показала ей этот листок.
– Это не все. Там еще много было, – задумчиво сказала она» (Ахматова А. О Пушкине. М., 1989. С. 355–356).
После смерти Анны Ахматовой Эмма Герштейн подготовила и опубликовала основные части ее незавершенных работ, вызвавших оправданный интерес. Прежде всего это фундаментальное, строго документированное исследование «Гибель Пушкина».