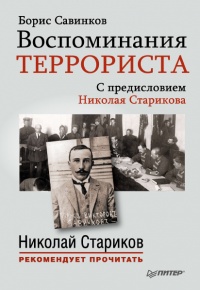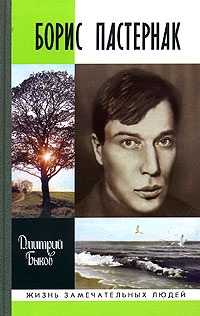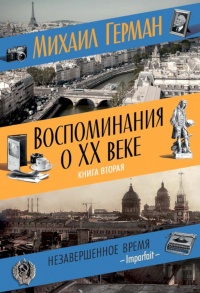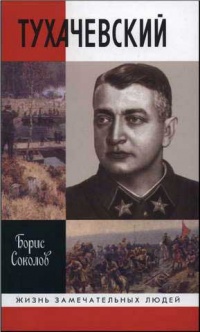Это желтое издание, Что питается Овсом, — Вертоград искусствознания С человеческим лицом.
Это и вправду был вертоград, но особой планировки. Внимательный наблюдатель мог бы обратить внимание на некую мелочь, так, пустяк, — на контртитуле первых выпусков обозначена редакционная коллегия, имена идут в следующем порядке: В. М. Полевой, О. В. Буткевич, В. М. Зименко, Д. В. Сарабьянов, Г. Ю. Стернин. И так — до последнего выпуска: В. М. Полевой, М. Я. Либман, Д. В. Сарабьянов, Г. Ю. Стернин. Замечаете? — алфавитный порядок начинается со второго имени, первое — вне алфавита. Так некогда газеты писали: «В зал входит т. Сталин, товарищи Андреев, Буденный, Булганин, Ворошилов…» Конечно, можно было написать, что В. М. Полевой — председатель редакционной коллегии, но по некоторым тонким соображениям так не пишется. Но дается понять, кто здесь главный. Вадим Михайлович Полевой был идейно — партийным прикрытием: некогда, во времена оттепели, и затем, во времена новых заморозков, он служил прямо в ЦК партии, где ведал изобразительным искусством. Затем, покинув самый главный Комитет, он стал профессором Академии общественных наук; это учебное заведение было сугубо партийным, да и цековские связи не увяли. Словом, В. М. Полевой был партийно — идеологическим прикрытием. М. Я. Либман, Д. В. Сарабьянов и Г. Ю. Стернин — выдающиеся искусствоведы, чрезвычайно далекие от партийного официоза.
Структура редколлегии была как бы ключом к структуре сборников. Как правило, каждый том открывала барабанная статья, где очередной раз воспроизводилась навязшая в зубах идеологическая жвачка. Но после того как ритуальная соцреалистическая молитва была прочитана, можно было приступать к делу. В «Искусствознании» было опубликовано великое множество серьезных исследовательских и теоретических статей, обзоров, рецензий. Никакое другое периодическое издание не могло сравниться с детищем Овсянникова.
Когда наступили новые времена, нужда в камуфляже отпала, но традиционное место издания в научной жизни осталось. Вскоре ситуация изменилась. Издательство принадлежало к системе Союза Художников СССР, но когда не стало СССР, не стало и союзного Союза. Издательство оказалось на грани исчезновения, Юра ушел на другую работу. Ежегодников не стало. Но вскоре нашлась подвижница, которая — практически в одиночку! — спасла искусствоведческий ежегодник. Валентина Тимофеевна Шевелева добровольно взвалила на свои плечи груз, с которым справлялась целая, пусть небольшая, редакция, да еще при поддержке аппарата издательства. Благодаря ее энтузиазму и самоотверженному труду «Искусствознание», утратив прилагательное «советское», продолжает жить в том русле, которое определилось во времена Овсянникова; теперь это толстый, даже очень толстый, высшей авторитетности отечественный журнал. В бумажной обложке.
Мы встречались с Юрой часто и с радостью, каждый мой приезд в Москву — в редакции, в Союзе художников, разокдругой он приглашал меня пообедать в ресторане Дома литераторов. Однажды я сильно задержался, не помню уж как, в Москве немудрено потерять время в транспортных лабиринтах; Юра ждал меня к трем часам в знаменитом литературном ресторане, а я за десять минут до назначенного срока оказался в Охотном ряду. Такси нигде не было видно, зато перед зданием тогдашнего Совмина толпились черные волги. От отчаяния мне пришла в голову отчаянная же мысль: я подошел к одной из министерских машин и развязно спросил, не подвезет ли меня старик на Воровского, я уплачу. К моему удивлению, министерский шофер согласился. Сначала мы помалкивали, но еще задолго до Садового кольца возничий успел разглядеть меня получше.
— Слушай, ты еврей, да? — нежданно поинтересовался он.
Я подтвердил остроумную догадку.
— Так вот, ты мне скажи — почему все эти большие начальники и партийные боссы женаты на еврейках?
Хороший вопрос. Просветитель во мне умрет только вместе с плотью — тюрьмой духа. Остается удивляться моему неистребимому идиотизму: я стал объяснять министерскому водиле, по каким причинам евреи кинулись в революцию, чуть ли не министра Витте вспомнил, который предостерегал царя, что если евреев не уравнять в правах с другими гражданами, хуже будет… Он до поры слушал мои разглагольствования, но после Садового кольца, когда езды оставалось мало, не выдержал:
— Что ты там говоришь, это все мура. Теперь слушай, что я тебе скажу. Просто еврейки — они очень страстные, понимаешь? Горячие! Наша лежит как колода. А они стррастные! Я знаю, у меня в доме отдыха была одна, ну, не забыть…
За литературным обедом мы с Юрой смогли обсудить эту неисследованную грань истории революционного движения в России.
Как правило, однако, нас занимали другие темы. Приезжая в Москву, как сказано, я не пропускал случая навестить их гостеприимный дом неподалеку от метро Сокольники — там было тепло, атмосферу создавала жена Юры Ирина, наделенная редким женственным обаянием красавица и умница, на глазах вытягивался в длину и созревал их сын Максим… Мы успевали о многом побеседовать. Юра умел рассказывать и щедро вводил меня, провинциала, в курс подковерной столичной жизни. Но особенно хорошо умел он спрашивать и слушать. Возможно, в его вопрошании, слушании и схватывании твоей мысли была даже некоторая рисовка, ну да что с того? Интерес был неподдельный и понимание было точным. Это было живое и насыщенное общение.