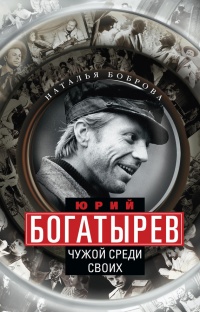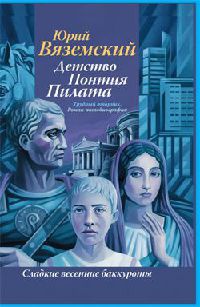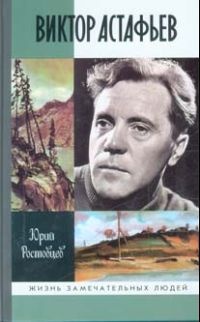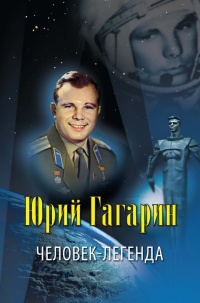(str. 245)
(str. 246)
«Королевская троица» во Франции XIV–XV вв.[14]
Одним из животрепещущих вопросов французской социально-политической истории XIV–XV вв., насыщенной, как известно, бурными и драматическими событиями, был вопрос о судьбах королевской власти. Он вставал постоянно, то в связи с проблемой престолонаследия, то в связи с попытками создания двуединой англо-французской монархии. Французское общество при этом более всего интересовало, каковы должны быть функции и полномочия короля. Именно это волновало самые различные слои вассалов и подданных короля, для которых часто неважно было, кто именно сидит на троне, пусть даже король английский, лишь бы он отвечал их представлениям о том, каким должен быть государь.
Но чем был король для многочисленных жителей Франции той эпохи? Как они его себе представляли и в чем видели его долг? Несомненно, что единого, общего образа короля для всех не было и быть не могло, он рисовался по-разному в зависимости от социально-культурной принадлежности человека и даже от его местожительства. В областях, сравнительно поздно вошедших в состав королевского домена, образ короля был, надо полагать, иным, нежели в старых домениальных владениях.
Все эти вопросы важны, тем более что они имеют отношение не только к духовной культуре позднесредневекового общества. Дело в том, что французская монархия с XIII в. все более осознанно и целеустремленно берет курс на обеспечение себе всей полноты суверенных прав, составляющих так называемый империй, который мыслился по образу и подобию власти римских императоров. По существу это был курс на создание абсолютной монархии. Но чтобы достичь этой цели, монархии недостаточно было тех или иных благоприятных социально-политических условий. Необходима была и определенная мутация общественного сознания, от чего во многом зависело, насколько успешным будет продвижение ее по этому пути. Поэтому проблема представлений о королевской власти имела в позднее средневековье чрезвычайно важное политическое значение.
Итак, воссоздавая образ короля, бытовавший во французском обществе XIV–XV вв., было бы неразумно пытаться создать некий общий или усредненный образ: их было несколько. Попытаемся охватить все существовавшие и определить, насколько велико было воздействие каждого из них на сознание тех или иных социальных слоев.
Наиболее емкое определение персоны короля, как мне кажется, в ту пору дал известный писатель XV в. Ален Шартье. В одном из своих сочинений он сказал, что в короле соединяются три человека: «человек божественный, человек моральный и человек политический». Ясно, что он уподобил персону короля Божественной Троице и представил ее единой в трех лицах, как своего рода «королевскую троицу». Эта выразительная аллегория, по существу, отражает весь комплекс понятий и чувств, сложившихся относительно короля в позднее средневековье. Если вглядеться в каждую из этих трех ипостасей «королевской троицы», то можно многое понять и в состоянии общественного сознания, и в его мутации.
Наиболее древним из этих образов был сакральный, божественный, восходящий еще к древнегерманским, дохристианским представлениям, но христианство придало ему особенно выразительные очертания. Зарождение и развитие христианской сакральной концепции королевской власти достаточно хорошо изучены, поэтому напомним лишь основные ее черты, особо отметив те новые ее положения, которые получают распространение в позднее средневековье.
Идея сакральности королевской власти опиралась на евангельское учение, согласно которому всякая власть от Бога. Причем власть королей рассматривалась как отмеченная особой печатью, ибо, подобно ветхозаветным царям, они еще в раннее средневековье стали совершать обряд миропомазания на царство наряду с коронацией. Во Франции традиция миропомазания берет начало с восшествия на престол Пипина Короткого (751 г.). Важно подчеркнуть, что этот обряд совершался всегда только при коронации королей, прочие же феодальные сеньоры, хотя они немало позаимствовали из церемонии коронации, и прежде всего само венчание короной (например, герцогской), никогда не освящались елеем. Многие из них, правда, присоединяли к своему титулу, как и короли, слова «милостью Божией», но корона обычно против этого протестовала, а в XV в. Карл VII, а за ним и Людовик XI запретили своим вассалам использование такой титулатуры.