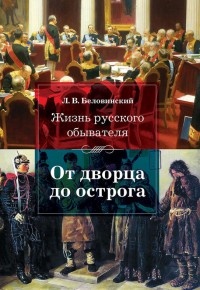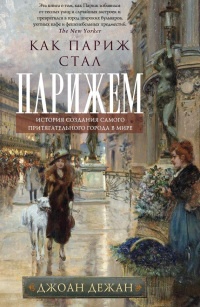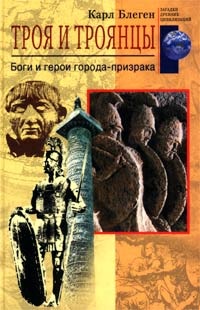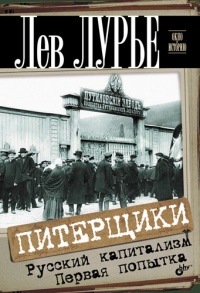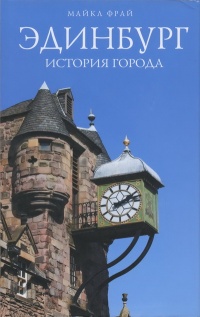Сюда жемчуг привез индеец, Поддельны вины европеец, Табун бракованных коней Пригнал заводчик из степей, Игрок привез свои колоды И горсть услужливых костей, Помещик — спелых дочерей, А дочки — прошлогодни моды. Всяк суетится, лжет за двух, И всюду меркантильный дух.
А вот нижегородский губернатор господин Баранов определял значение этого торжища иначе: «Ярмарка Нижегородская есть торговый центр первой важности, имеющий свойство не тех бирж, на которых идет лишь задорная игра дутыми бумажными сделками, игра, усиливающая лишь судорожные корчи нашего курса, а биржи деловой, орудующей живым делом русской торговли и промышленности».
Первый из процитированных авторов был легкомысленным заезжим стихотворцем, разумеется, далеким от экономических вопросов. Второй — лицом, напротив, кровно заинтересованным, этаким куликом, свое болото восхваляющим. Истина, пожалуй что, была посередине. Но Баранов, видимо, был к ней ближе.
Ярмарка была, пожалуй, главным событием в жизни множества российских магазинов, магазинчиков, лавочек, крупных торговых домов и оптовых компаний. На нее возлагались большие надежды, заранее к ней готовились. Это был весьма приятный ежегодный ритуал, который содержал внутри себя немало мелких ритуальчиков. Вот, например, как описывал это Сергей Васильевич Дмитриев, служивший в юности у одного ярославского чаеторговца: «Приехав в Нижегородскую ярмарку без хозяев (они приезжали позднее), мы всем коллективом отправлялись в старый, а оттуда в новый соборы, где служили молебен, ставя свечи и платя духовенству за счет хозяев. Хозяева по приезде на ярмарку делали то же самое, только уж одни, то есть пели молебны. По окончании ярмарки, когда товар был уже вывезен на баржи и в лавках все убрано, шли опять в соборы и пели благодарственные молебны уже все вместе: и хозяева, и служащие. В лавке оставались только рабочие татары. Придя с молебнов, садились все за один стол с хозяевами обедать, выпивать и поздравляться с благополучным окончанием ярмарки. Лебедев, Агафонов, Чистов, Шебунин напивались до безобразия. Их усаживали на извозчиков по двое и в сопровождении татарина-рабочего отправляли прямо на пароход в заранее купленные каюты, где они храпели до утра следующего дня».
Естественно, что ярмарочные масштабы оправдывали столь серьезные и обстоятельные ритуалы. Сделки, совершаемые здесь, иной раз исчислялись миллионами. Помимо этого, на ярмарке реализовывались стратегические замыслы — например, налаживались длительные отношения с восточными купцами. Благодаря этим отношениям разнообразие товаров было потрясающим. Тут продавались орехи, тигровые чучела, подушки, ковры, всяческая одежда, посуда и прочая утварь — и все по дешевке, по оптовым ценам.
Конечно, процветала тут и торговля розничная, притом товары также привлекали редким сочетанием высшего качества и дешевизны. Упомянутый уже С. Дмитриев из Ярославля хвастался в своих воспоминаниях: «С каждой Нижегородской ярмарки я привозил годовые запасы мыла, рису, изюму, орехов, меду и т. п. А в этот год, к удовольствию матери, я привез еще из монастырей всевозможных икон, иконок и просфор. Просфоры делались черствыми и долго не портились».
Работали на ярмарке совсем уж мелкие, но при этом особенно колоритные предприниматели. Разносчики раков кричали:
— Раки-рачицы из проточной водицы! Раки, раки, раки! Кру-у-пные раки! Варе-е-ные раки! Рачиц с икрой наберем! Раки, кому раки, кому рыба надоелась и говядина приелась? Раки, раки, раки!
Здесь подвизались и недорогие парикмахеры. Они обращали на себя внимание весьма пространными речами: