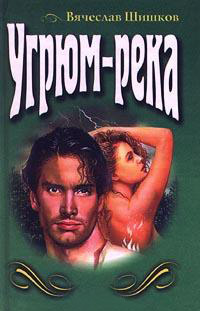Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 102
мне пастбища, сады и загоны, которых еще не было. Курятник. Огород. Фруктовый сад. Леса тут уже были, конечно, как и пруд. Но я ясно видела и остальное, когда он рисовал словами каждую деталь. Мы так целый час бродили по всему участку, а под конец оказалось, что мы оба двинулись в одном направлении, к огромному старому дубу на вершине холма в том месте, которое Эфраим уже называл южным пастбищем. Крона дерева раскинулась футов на пятьдесят, а корни у него были старые и узловатые. Свежие и зеленые листья обещали летом давать хорошую тень.
Эфраим показал мне на основание дерева.
– Смотри, лисья нора. Значит, за нами тут будут присматривать, любимая.
Я кивнула, но не нашла слов для ответа.
– Ты устала. – Костяшкой пальца Эфраим вытер слезу с моей щеки. – Присядь, отдохни.
Он протянул мне младенца и пошел обратно к телеге. Принеся по очереди камни, он уложил их под деревом, а когда закончил, устроился на сырой траве рядом со мной.
Протянув ко мне руку, он провел по моей щеке большим пальцем.
– Я не желал бы в жизни иного спутника, чем ты [27], – произнес он.
– Что-то у тебя сегодня сплошной Шекспир, – сказала я. А когда он рассмеялся, сама отозвалась цитатой: – Скажи же, за какой из моих недостатков ты влюбился в меня? [28]
– За все твои достоинства и недостатки, скрытые и явные, – ответил он и притянул меня поближе, чтобы поцеловать в лоб. Мы вместе повернулись, чтобы посмотреть на место, где построим новую жизнь.
– Хорошо быть дома, – сказала я.
Так оно и было.
Спектакль окончен [29]
Вдали кто-то кричит. Там, за садовой калиткой. Это заставляет женщину пробудиться от глубокого спокойного сна; она отпихивает одеяло, пытаясь поймать краешек непонятного сновидения – что-то про веревки и реки, – но оно исчезает у нее из головы сразу же, как она опускает босые ноги на потертый деревянный пол.
Теперь крики становятся громче, напряженнее. Двумя широкими шагами она подходит к окну и отодвигает тяжелые шторы. Впервые за много долгих месяцев в углах стеклянных оконных панелей нет инея, серебряной филиграни, ловящей лучи света. В Хэллоуэлл наконец пришла весна.
Нет, думает она, прислушиваясь, это не крик.
Это кто-то скулит и хнычет. Но не пес. Не волк. Это не злое тявканье койота – звук мягче, нежнее.
Значит, это моя лиса, думает женщина.
Она берет одеяло, лежащее в ногах кровати, и набрасывает его на плечи. Пока она идет к передней двери, доски пола трещат от старости. Ноги у нее босые, бледные и призрачные, но уже потеплело, и ей не нужны чулки или ботинки.
Когда женщина открывает дверь, она сразу видит лису.
– Буря, – произносит она, хотя голос ее едва громче дуновения прохладного утреннего ветерка.
Река вскрылась. Там, где когда-то толстый прочный лед тянулся от берега до берега, ныне течет и бурлит поток. Он все еще ужасно холодный после долгой зимы и от талого снега, но эта кипящая смертоносная стена грязной темной воды стремится к югу. И там, вдали, если прислушаться, слышно водяное колесо. Оно наконец освободилось и вращается, посылая в рассвет свою музыку. Металлический волшебный перезвон.
Лиса слышит и реку, и колесо со своего места у входа в нору, откуда она наблюдает за женщиной. Она слышит их и радуется. Настало теплое, мягкое время года – по крайней мере, пока не пойдут дожди. С дождями начнутся уже другие проблемы. Пока же в долине повсюду пышная свежая зелень и новая жизнь. Орехи, ягоды, маленькие создания, порхающие с дерева на дерево. И цветы – нарциссы, ирисы и гиацинты. У земли запах свежести и созревания, на каждом поле пробиваются нежные ростки. Червяки, божьи коровки и бабочки.
Лисе тоже есть что предложить миру этой весной, и она снова поскуливает, заставляя лисят выйти из норы. Они побаиваются, так что ее лис подходит к ней, прижимается носом к ее носу, а потом ласково выталкивает лисят наружу, одного за другим. Они медленно выкатываются на траву и начинают изучать шишковатые корни старого дуба. Знакомиться с этим новым местом. Они царапают кору. Обнюхивают три больших камня, покрытых мхом. Они лазают и падают. Прячутся и играют.
И все это время женщина наблюдает за ними, стоя у двери. Любуется и изумляется. Вспоминает. Грустит. Под ее восхищением прячется горе, давнее и болезненное, как шрам. Но даже этому горю не поглотить радость, которую она ощущает сейчас, глядя на траву у дуба. Лисят четверо. Один самец – большой и рыжий, как отец, – и три самочки. Тоненькие и темные, как их мать. Серебряные. Редкие.
От автора
На этом месте стоило бы протянуть заградительную ленту, прямо у вас перед носом. Осторожно! Опасность! Место преступления, не входить! И так далее, вставить все обычные предупреждения. Если вы не впервые читаете мои книги, то уже знаете, что дальше я разберу все детали этого романа. Все расскажу, все объясню, выдам все повороты сюжета. Если вы впервые отправились в путь по моей книге, то скажу вам две вещи: во-первых, спасибо, что доверились мне, а во-вторых, вернитесь и не читайте эти страницы, пока не прочтете целиком роман, с начала до конца.
Каждая история течет как река, от истока к устью, так что отдайтесь на волю ее волн, а в конце я снова встречу вас здесь.
Наверняка у вас будут вопросы.
* * *
Я коллекционирую людей. У меня это наследственное. Мой отец собирал людей так, как другие собирают камни, марки или монеты. Если точнее, он приводил домой автостопщиков. В его случае не такое уж опасное это было занятие. Папа когда-то работал на ранчо. В юности друг его подбил на спор поучаствовать во время родео в соревновании по езде на необъезженной лошади. Чтобы получить приз, надо было продержаться в седле восемь секунд, но ему этого было мало – он ездил на этой лошади двадцать минут, пока она не сдалась и не замерла посреди стадиона, тяжело дыша, окруженная облаком пыли и навоза. В общем, строго говоря, папа не выиграл, но он доказал то, что хотел доказать. Потом он пошел в армию и служил там в военной полиции. В общем, с любым автостопщиком он бы справился.
Я это упомянула, чтобы объяснить, что и я, как отец, все время привожу домой людей – просто не могу удержаться. Только я своих людей не подбираю на обочине. Я их нахожу в библиотеках, в газетах и в странных уголках интернета. Понимаете, люди, которых я зову к себе в дом – если точнее, в свой кабинет – и в голову, давно уже умерли: пропавший судья в Нью-Йорке 1930-х годов; единственная женщина, когда-либо служившая на цеппелине; русская великая княгиня; военнослужащая времен Второй мировой, получившая больше всего наград среди женщин, служивших в той войне; а теперь вот известная, но почти забытая повитуха.
Да, я коллекционирую людей.
С этой женщиной я встретилась пятнадцать лет назад в приемной врача. Я была беременна нашим младшим сыном, а мой гинеколог опаздывал на прием. Он задержался на сложных родах, а я в результате застряла у него в приемной. Помню, я думала, что надо бы перезаписаться и идти домой. Если б я это сделала, вы бы, читатель, не держали
Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 102