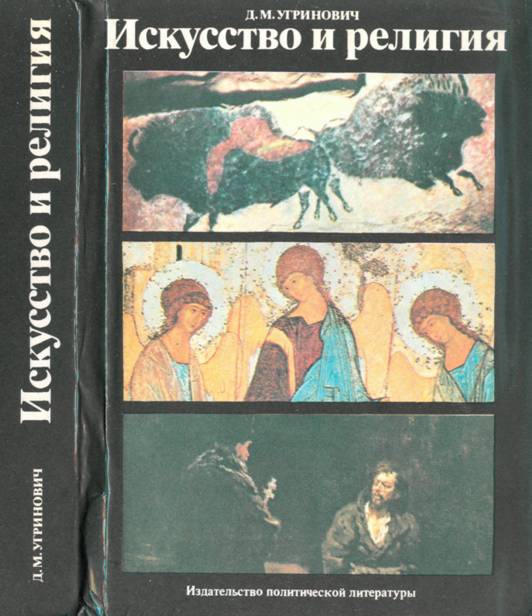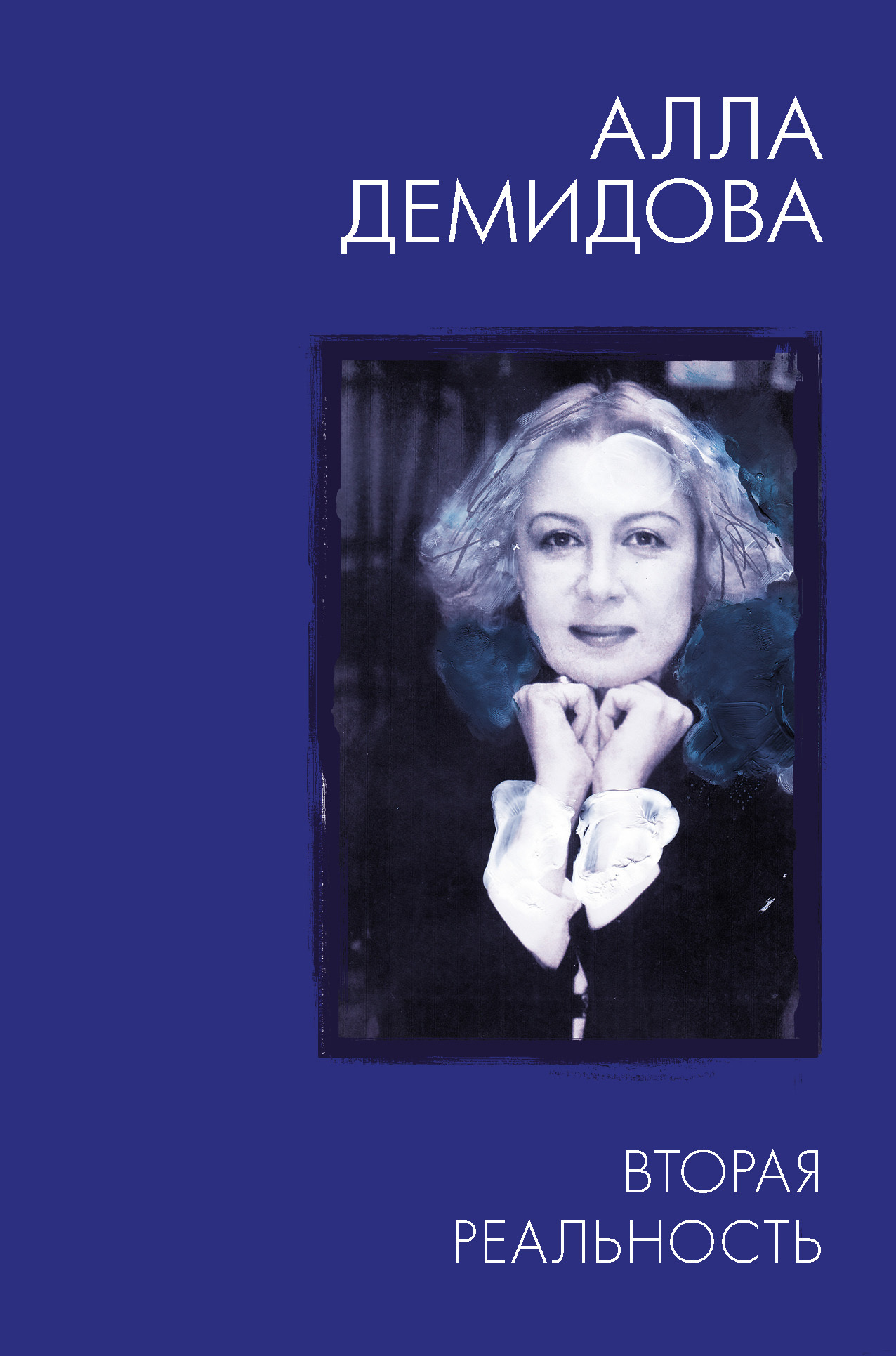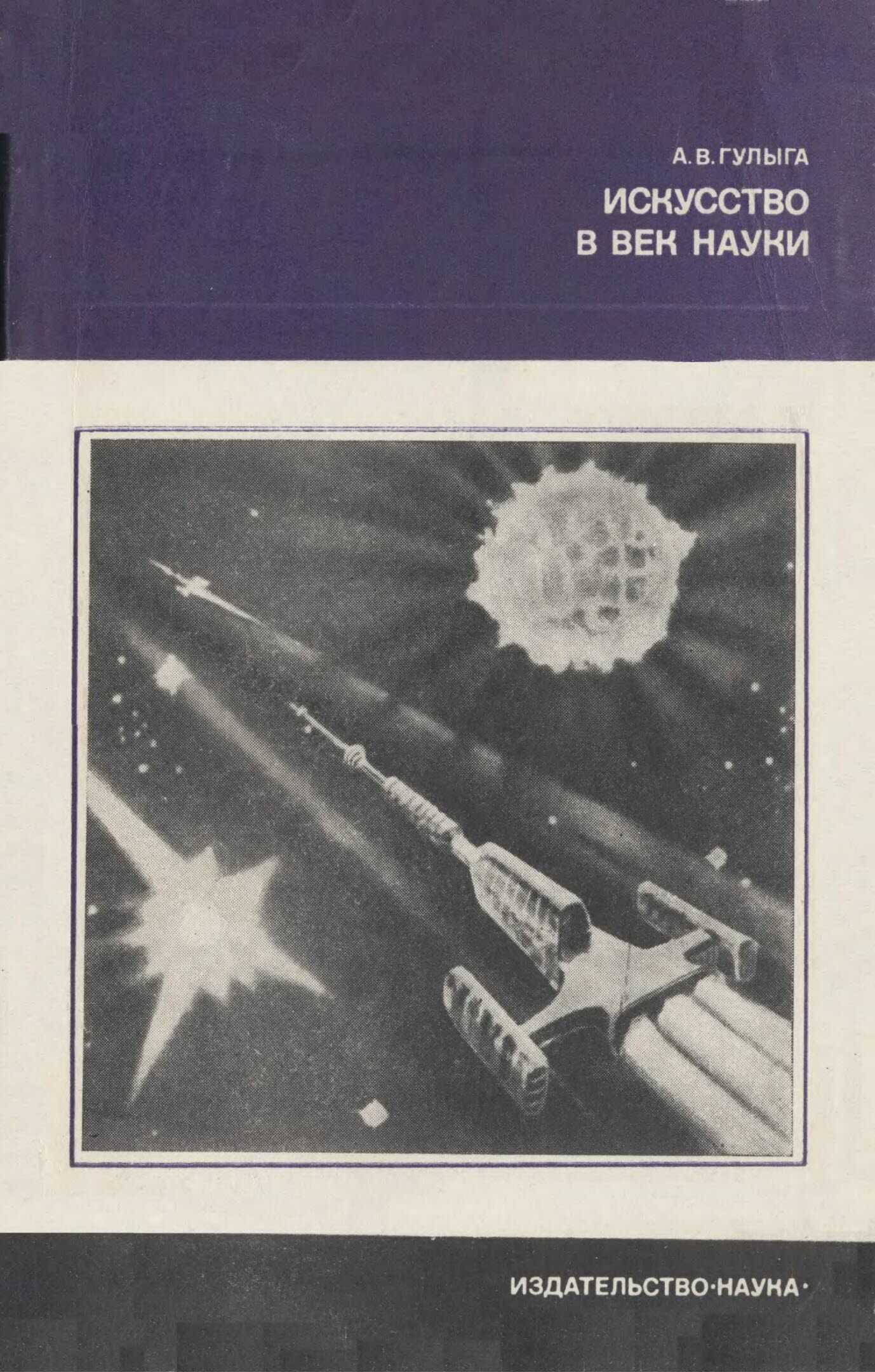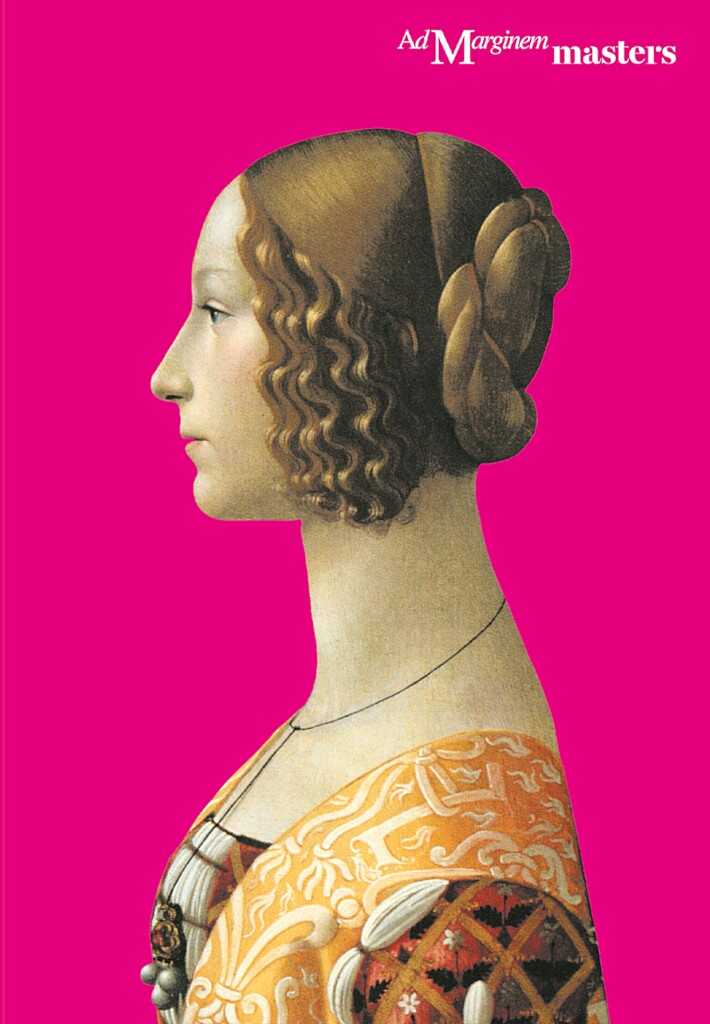и за плохую игру, которую я так ясно сознал в тот памятный спектакль.
Помощник режиссера осторожно поцарапал в стекло конуры, в которой я сидел, я вышел на сцену и отыграл не хуже и не лучше, чем всегда.
Да я бы и не мог играть ни хуже, ни лучше того, как привык всегда играть эту роль, не смог бы ничего изменить в своем исполнении – так сильно укоренилась во мне и, «врепетировалась» механическая привычка. Однако под влиянием мыслей, которые тогда пережил в короткий перерыв между сценами, я стал следить за своей игрой и критиковать свою дикцию, интонацию, движения, действия. А язык тем временем привычно болтал слова роли, а тело и мускулы повторяли заученные жесты.
«Ирина и ямы копались долго». Что это значит? Какие «ямы копались»? – мысленно придирался я к себе. – Я говорю бессмысленно. Надо сказать: «Ирина и я – мы копались долго», – а я говорю: «Ирина и ямы копались долго». Я не умею даже правильно группировать слова, не соблюдаю логических пауз, делаю неверные ударения: говорю не по-русски, как иностранец. Пока я так размышлял, промелькнула другая безграмотная фраза: «Вотон праздник миройлюбви». Что это значит: «Вотон праздник»? При чем тут «Вотон»? Почему такая огромная остановка, а после нее – едва слышное «миройлюбви»? Оказывается, что в эту безграмотную паузу врезалась какая-то совершенно нелепая механическая штучка.
«Нет, это не случайность, – подумал я. – Не только сегодня, а всегда я произносил эту фразу с такой же точно интонацией и так же безграмотно И это тоже «врепетировалось» в роль».
«А вот и жест! Что он такое обозначает? Я знаю его! Это отвратительное актерское кокетство! Я заигрываю со зрителем! И это я позволяю себе делать в тот момент, когда происходит глубокая драма в душе изображаемого лица».
«Еще и еще такие же бессмысленные кокетливые жесты! Их и не перечтешь!»
«А эта игра с бумажкой, которую я складывал и мял пальцами от мнимого волнения и беспомощности! Когда-то это вышло само собой, случайно и было хорошо. А теперь? Во что это выродилось? Какая пошлая и безвкусная актерская штучка! И с какой любовью я ее оттачиваю, выдвигаю на первый план, показываю!
А чувство? Куда оно девалось, то чувство, которое когда-то вызвало самую игру с бумажкой? Я не находил в себе следов того прежнего подлинного творческого чувства».
«А вот и еще и еще актерские штучки! От одной я перехожу к другой. Вот линия, по которой направляется роль! Вот оно, мое сквозное действие и сверхзадача, как называет ее Творцов».
«Но довольно! Вон, прочь все эти штучки! Буду жить самим существом роли!» Я решил пропустить свою обычную игру с платком, чтобы лучше вместо этого сосредоточиться на чувстве, но я его не нашел в себе и чуть было не сбился с текста.
Я попробовал ради освежения роли изменить экспромтом мизансцену, но едва только я начал, как почувствовал, что слова текста зашатались. Оказывается, что я уже не мог тогда безнаказанно отклоняться от своих набитых актерских привычек и от линии сценических штучек, ставшей основной в роли. Еще менее я мог идти по прежней верной линии. Она утерялась, и ее след простыл. Нужна была новая творческая работа чувства, чтобы воскресить утерянное. А пока пришлось цепляться от одной штучки к другой и по ним вести линию роли. Беда усугублялась тем, что я потерял к ним всякий вкус, не мог уже более делать их с апломбом. Почва ускользала из-под моих ног, и я висел в воздухе без всякой опоры.
Потеряв устои на сцене, я почувствовал, что во мне образовалась тяга в зрительный зал. Точно меня пересадили на новый стержень, помещенный там, по ту сторону рампы, в зрительном зале. В самом деле: прежде я вращался среди чувств, мыслей, привычек, пусть даже актерских штучек, которые имели отношение к роли; круг, который охватывало мое внимание, был на сцене и только краями задевал зрительный зал. Теперь же центр этого круга переместился в зрительный зал. Я или рассматривал зрителей, или словно вместе с ними смотрел из зала на самого себя. Что касается пьесы и роли, то они остались где-то там, за пределами круга, и я уже ничего не знал об их жизни. Пока, механически играя роль, наблюдал за собой и критиковал каждый свой шаг, я, естественно, убивал непосредственность и вместе с тем, анализируя механическую бессознательность игры, тем самым делал ее сознательной. Другими словами, я рубил сук, на котором сидел, и расшатывал основы, на которых держалась роль; исчезли актерский апломб и уверенность, побледнели краски, штучки потеряли свою четкость. Я весь стал какой-то серый, неопределенный и чувствовал, что ушел со сцены так скромно и незаметно, точно после провала.
Старушка и рецензент, которых я ждал, не пришли, и я решил скоротать время до следующего моего выхода на сцену не один в своей уборной, а на народе, чтобы не слишком задумываться над происшедшим, пока шел спектакль. Я отправился в уборную Рассудова, откуда раздавались голоса.
Маленькая комната была переполнена артистами, сидевшими на подоконниках, на трубах отопления, друг у друга на коленях или стоявшими в дверях; другие опирались спинами в зеркальные шкафы. Сам Рассудов, как всегда, восседал в своем кресле. Чувствов сидел на ручке кресла. Перед ними отдельно, точно обвиняемый, сидел Ремеслов и от нервности через каждые несколько секунд поправлял пенсне на золотой цепочке.
– Вот я и говорю, что на сцене нужна жизнь человеческого духа, – заявил Ремеслов.
– В таком случае вы опять противоречите сами себе, – отвечал Рассудов.
– Почему? – возразил Ремеслов.
– А потому, что жизнь духа, создается живым человеческим ощущением ее, то есть подлинным чувством и переживанием, – пояснил Рассудов. – Но ведь вы не верите в возможность зарождения живого человеческого чувства на глазах тысячной толпы, среди волнующих, рассеивающих условий публичного творчества. Вы сами сказали, что считаете это невозможным, и потому однажды и навсегда отреклись от такого переживания. Ваше отречение является отказом от подлинного живого чувства и признанием на сцене внешнего телесного актерского действия – представления.
– Да, представления, но им я представляю чувства роли, – возразил Ремеслов. – Вот и Алексей Маркович говорит, что он тоже представляет образы и страсти роли.
– Так Игралов и не отрицает переживания у себя дома, в кабинете, а вы отрицаете даже это. Вы имеете дело не с внутренним чувством, а лишь с его внешним результатом; не с душевным переживанием, а лишь с его физическим изображением; не с внутренней сутью, а с внешностью. Вы