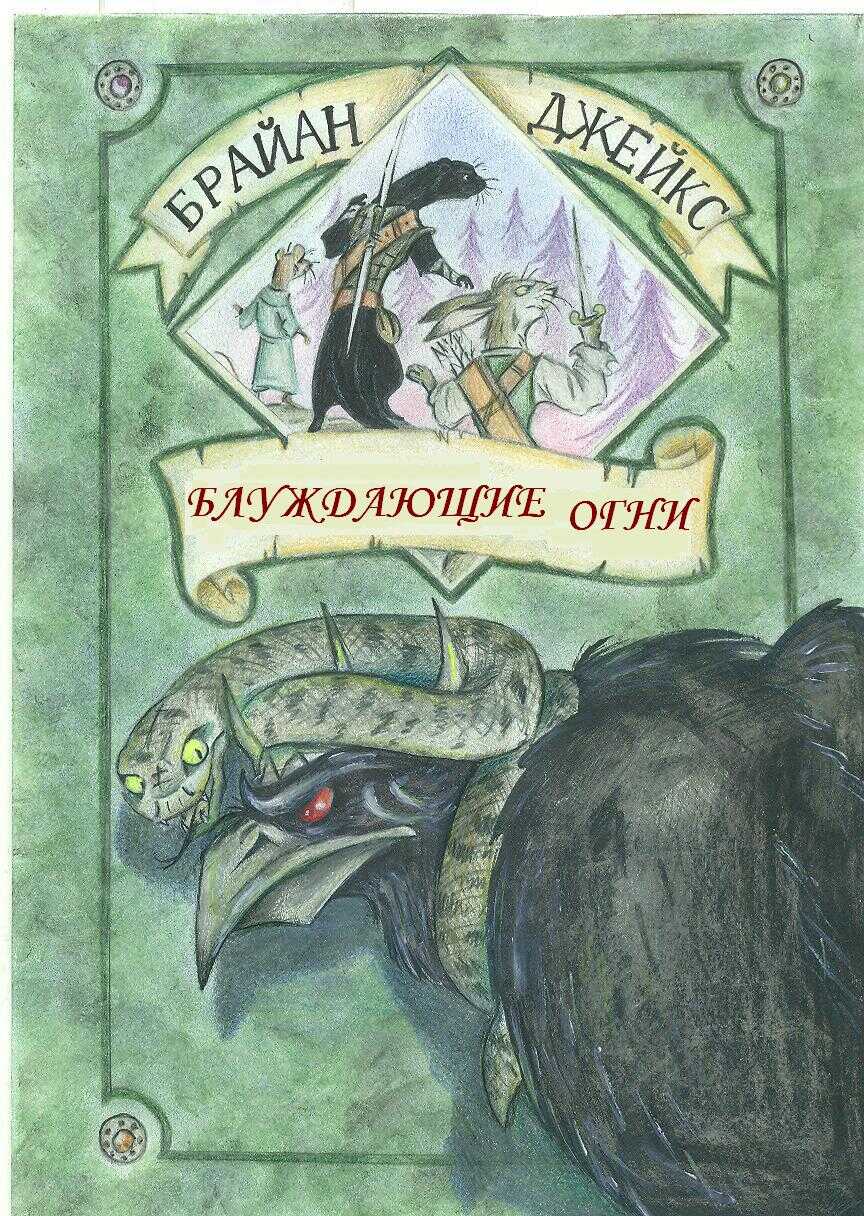Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110
не упоминал этих, неожиданно прозвучавших для нее имен, и ничего не рассказывал о существовании этих людей.
Логично восстановив по минутам вчерашний день, Мечетный пришел к выводу: да, именно так и было.
21
Придя к такому заключению, он даже успокоился. Ведь ничего не стоило объяснить Анюте эту печальную, но в общем-то простую историю, каких, увы, немало случалось в дни войны. И он ее, эту историю, вовсе не прятал. Просто не любил он раскрывать уже давнюю страницу своей жизни, которую и сам старался забыть.
Да, была такая Наташа. Студентка, с которой Мечетный учился на одном курсе, в одном потоке, весьма способная студентка, к тому же еще отличавшаяся редкой красотой. Все в ней было хорошо: и фигура, и голос, и строгие, правильные черты лица. Чуть ли не половина студентов из их потока по очереди перевлюблялись в нее, впрочем, без особого успеха.
Мечетному – видному, широкоплечему парню с карими глазами и русым чубом, отличнику, спортсмену, не раз защищавшему честь института на разных городских и областных соревнованиях, повезло. После долгих сравнений и взвешиваний Наташа остановила на нем свой выбор.
Они поженились. И не в пример многим студенческим парам, зажили вроде бы и неплохо. Когда учились на третьем курсе, у них появился сын. В честь отца его назвали Владимиром, Вовкой. У них была комната, к Владимиру-младшему Наташа вызвала из маленького уральского городка свою тетку – ворчливую, добродушную бобылку, взявшую на себя все заботы о двоюродном внуке и о хозяйстве молодой семьи. Владимир-старший, отказавшись от всех развлечений и даже от спорта, по ночам подрабатывал, делая чертежи для одного из местных заводов. Нелегко приходилось, конечно. Но он души не чаял в своей красивой жене и не жалел сил, чтобы она могла учиться, ни в чем не испытывая нужды. И жили, не ссорились, хотя особой теплоты в их отношениях не было. Он помогал Наташе в учебе, и они оба недурно перешли на последний курс.
Супружескую пару Мечетных студентам ставили даже в пример. И фотографии их не раз оказывались рядом на доске отличников…
Первое серьезное семейное недоразумение произошло, когда началась война. В дни, когда немецкие дивизии подступали к Москве, в городе из коммунистов и комсомольцев срочно формировалась одна из знаменитых впоследствии уральских дивизий. Как студент-выпускник Владимир Мечетный имел право на отсрочку. Но правом этим решил не воспользоваться и заявил своему семейству: идет проситься на фронт. Наташа этого не поняла: семейный человек, жена, сын, сам без пяти минут инженер, он не может, не имеет права бросить учебу, семью, рисковать их общим будущим. После ночи бурных объяснений, когда Наташа вслух пожалела, что вышла замуж за такого дурака, Владимир утром пошел в военкомат.
Простились все-таки сердечно. Наташа плакала на вокзале, маленький Вовка, хотя ничего и не понимал, тоже плакал, цепляясь за новенький полушубок отца. Обещали друг другу писать. И действительно, он аккуратнейшим образом посылал домой солдатские треугольнички, уверял Наташу в своей любви, мечтал о возвращении и о том, как славно заживут они, когда победят немца. Наташа аккуратно отвечала. Со свойственным ей педантизмом Наташа нумеровала свои письма и, когда Мечетного, уже лейтенанта, ранило подо Ржевом, ему как раз и пришло двадцать восьмое письмо: маленькая, всего в несколько строк открытка, в которой сообщалось, что дома все хорошо, Вовка растет здоровенький и крепкий. Сообщались обычные домашние пустяки, которые всегда так дороги сердцу солдата.
Раненого Мечетного отправили в тыловой госпиталь, в город Калинин, который, хотя и сильно пострадал в дни оккупации, был уже глубоким тылом, раненых принимал гостеприимно. Госпитали этого города были известны хорошим, квалифицированным уходом.
Ранение Мечетного оказалось серьезным. Оно осложнилось тем, что в пылу наступления санитары не сразу его отыскали и при полевой обработке раны не было принято достаточных антисептических мер. Рана воспалилась. Опасались заражения крови. Однако квалифицированный уход и крепкий организм Мечетного победили недуг. Письма из госпиталя продолжали идти на Урал. Поврежденная рука плохо слушалась, Мечетный не мог еще писать и диктовал свои треугольнички соседу по палате. Чужой рукой повествовал он о госпитальном житье-бытье, о том, что получил он орден Красного Знамени за штурм Ржева, и о своей мечте скорее поправиться, с боями дойти до Берлина и с победой вернуться домой. Сообщил и о том, что изменился номер его полевой почты.
Наташа ответила и на новый номер. В письме была весть о том, что ей, как жене орденоносца, удалось получить вместо маленькой студенческой комнатки приличное жилье в новом доме, где он, вернувшись с победой, хорошо и удобно отдохнет. Мечетный порадовался. Уже своей рукой написал пространный ответ и сообщил, что, возможно, его отпустят долечиваться на родной Урал. Ответа на это письмо получить не успел. Его устроили в эшелон, отвозивший раненых в госпитали глубокого тыла. Обрадовался: обеспечен хороший медицинский надзор, а главное, в поезде хорошо кормят: не придется разменивать продовольственный аттестат. Это было счастьем, ибо не хотелось приезжать к жене и сыну с пустыми руками.
Очутившись в родном городе, он первым делом реализовал этот свой многодневный аттестат, набил вещевой мешок всяческими продуктами и, взволнованный, предвкушая радость встречи, пошел искать семью по новому адресу. Жила она теперь в новом районе, в поселке военных. Перепрыгивая через две ступеньки, Мечетный влетел на третий этаж. Едва переведя дух, нетерпеливо застучал в дверь.
Открыл ему невысокий плотный мужчина с круглой лысоватой головой. Он был в пижаме и тапках. Поправив на носу очки, он спросил:
– Вам кого, товарищ старший лейтенант?
– Наташу. Что, она здесь не живет?
– Почему же не живет, живет… Она сейчас сына кормит. – И громко: – Наташа, к тебе пришли.
Мечетный успел заметить на вешалке шинель. Офицерские, до блеска начищенные сапоги стояли под вешалкой. Ничего не понимая, он продолжал топтаться в дверях, когда появилась Наташа в халатике с ложкой в руках. Ложка была измазана в манной каше. Увидела его, застыла и только спросила:
– Ты?
На ее малоподвижном лице с очень правильными чертами было удивление и, как ему показалось, испуг.
Да, конечно, испуг. И испуг этот был обозначен особенно четко.
Так и стояли они молча: мужчина в пижаме и тапках, испуганная женщина и он, ничего не понимающий Мечетный.
– Так сразу… Даже не предупредил… Ты разве не читал моего последнего письма? – бормотала женщина. – Письма за номером тридцать.
А пока они так стояли в дверях, появился мальчик лет четырех, здоровый, румяный, с круглой рожицей, перепачканной в манной каше. Он с удивлением смотрел на незнакомого военного в старой шинели, с мешком за плечами, на испуганное лицо матери. Должно быть, учуяв сердцем что-то недоброе, страшное, он бросился к мужчине в пижаме и уткнулся к нему в колени.
– Вовка! – бросился к нему Мечетный. – Вовка, сынок! Не узнаешь? Я же твой папка.
Мальчик, продолжавший прижиматься к мужчине в пижаме, вдруг заревел, закричал:
– Уйди, уйди, нехороший дядька! – И, обращаясь к человеку в пижаме: – Папочка, гони его, пусть он уйдет.
– Вовочка, Вовочка, – растерянно бормотала мать.
– Уйди, пусть уйдет этот дядька!
Человек в пижаме растерянно гладил русую головку ребенка и переступал с ноги на ногу.
Потом мужчины посмотрели друг другу в глаза. Обоим было тягостно, страшно. Но они не произносили ни слова.
– Ты скажи, где ты остановился. Позвони. У нас с Анатолием есть телефон. Я к тебе забегу, все объясню, – бормотала женщина побледневшими губами, и красивое, правильное лицо ее, смятое страхом, в это мгновение потеряло всю свою привлекательность.
Ничего не ответив, Мечетный повернулся и вышел.
Вышел, не произнеся ни слова, но так при этом хлопнул дверью, что с потолка этого нового, еще пахнущего сырой известкой дома упало несколько увесистых кусков штукатурки.
На ночлег военный комендант направил его в огромный рабочий клуб, взятый под общежитие транзитников. Звонить Наташе Мечетный не стал. К чему? Все было ясно. Но она сама ночью отыскала его, ворвалась в комнату, где в разных углах на топчанах храпело человек десять. Ворвалась, заплакала по-бабьи, в голос, не обращая внимания на сонные головы, поднявшиеся с набитых сеном блинообразных подушек.
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110