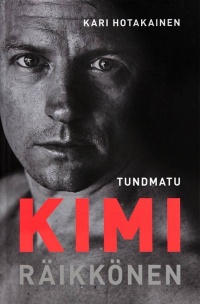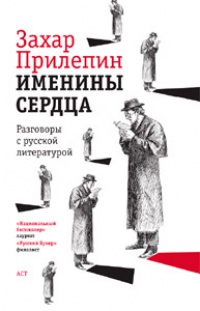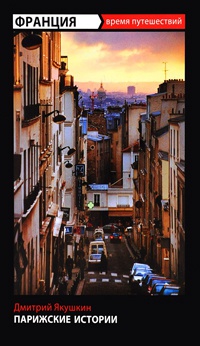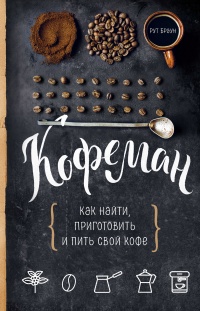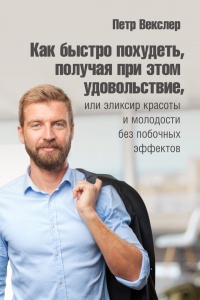Тридцати неполных лет —Любо ли не любо —Прибыл ТеркинНа тот свет,А на этом убыл, —
потому что Теркин бессмертен. Если Теркин едет на тот свет, то исключительно для того, чтобы произвести там инспекцию, за кощунство, как Христос, извести оттуда грешников. Но вдруг выясняется, что тот свет, неизбежное будущее всех, всевластен и всепобедителен. Выморочный мир поздней Советской России описан Твардовским с изумительной точностью. Именно этот мир смерти, мир, где всё против человека, идеально точно совпадал с реальностью. Теркину нечего там делать. И бежать с того света некуда. Чтобы Теркин вышел оттуда и распрямился, нужна была новая война. Вот почему «Теркин на том свете» так трудно пробивался и так быстро был запрещен.
И последнее. Возможен ли подобный герой в двадцать первом веке? Пожалуй, Теркин остался в двадцатом веке навсегда, как навсегда в нем остался Твардовский. Такой поэт сегодня невозможен, потому что нет больше народа, к которому он мог бы обратиться. И такой народ сегодня невозможен, потому что нет поэта, который мог бы его написать. И эта взаимная неизбежность, к сожалению, безусловна.
Но безусловно и другое. Тот свет, тот ад, который Твардовский описал с такой огромной убедительностью, вовсе не так вечен, бессмертен и неуязвим, как казалось бы. Нельзя вечно жить по законам смерти, рано или поздно надо начинать жить иначе. И в этом смысле некоторые надежды на возвращение Теркина все-таки еще есть.
Арсений Тарковский
«Я беженец, я никому не нужен…»
Творчество Тарковского-старшего не освещено в достаточной степени ни нашим, ни западным литературоведением, но неугасающий интерес к его поэзии кажется мне чрезвычайно симптоматичным.
Мое отношение к поэзии Арсения Тарковского проходило три этапа. В детстве его стихи меня абсолютно гипнотизировали, в особенности благодаря двум пластинкам, которые вышли одна в 1970-е годы, вторая – 1982-м. Этот небольшим тиражом вышедший на фирме «Мелодия» черно-желтый диск «Я свеча, я сгорел на пиру…» был для множества моих ровесников дверью в мир серьезной литературы. Но покупали мы эту пластинку, конечно, не потому, что понимали что-то в стихах, а потому, что фамилия автора была Тарковский.
Андрей Тарковский был самым загадочным режиссером нашего детства и отрочества. О нем ходили легенды. Все пытались попасть на его «Сталкера» – экранизацию «Пикника на обочине». Все выходили смертельно разочарованными, не понимая, какое отношение этот странный фильм имеет к страшной, таинственной книжке нашего детства (это была подшивка из журнала «Аврора»), которую давали прочитать на одну ночь. Тарковский был тайна, после его отъезда – тайна вдвойне. Я помню, как в 1984 году весь мой курс полностью снялся с лекции, чтобы посмотреть идущее где-то на окраине, чуть ли не в Зеленограде, «Зеркало», идущее чудом, потому что Тарковский уже уехал. Фамилия Андрея Тарковского обладала магией, и всё, что касалось его, обладало магией тоже. Стихи его отца звучали в его картинах, и, абсолютно не понимая этих стихов, мы их впитывали, заучивали с голоса:
Здесь, в Риме, после долгого изгнанья,Седой, полуслепой, полуживой,Один среди небесного сиянья,Стоит он с непокрытой головой.
Дыханье Рима – как сухие травы.Привет тебе, последняя ступень!Судьба лукава, и цари не правы,А все-таки настал и этот день.
От мерцовского экваториалаОн старых рук не властен оторвать;Урания не станет, как бывало,В пустынной этой башне пировать.
Глотая горький воздух, гладит СеккиДавным-давно не чищенную медь. —Прекрасный друг, расстанемся навеки,Дай мне теперь спокойно умереть.
Он сходит по ступеням обветшалымК небытию, во прах, на Страшный суд,И ласточки над экваториалом,Как вестницы забвения, снуют.
Еще ребенком я оплакал этуВысокую, мне родственную тень,Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету,Благословить последнюю ступень.
Половина, а то и две трети моих тогдашних сверстников понятия не имели о том, кто такой Анджело Секки. Нам казалось, это кто-то вроде героя батюшковской элегии «Умирающий Тасс», какой-то поэт-изгнанник, никому в голову не приходило, но строчка «От мерцовского экваториала» гипнотизировала так же, как, по признанию Маяковского, его гипнотизировала когда-то строчка «Безмятежней аркадской идиллии» (как он признавался Чуковскому в анкете: «Нравилось по непонятности»).