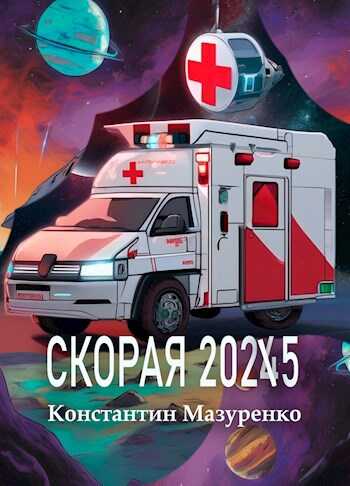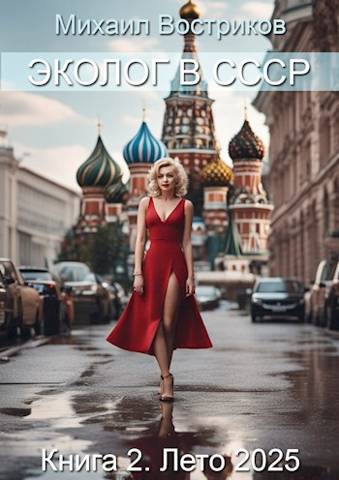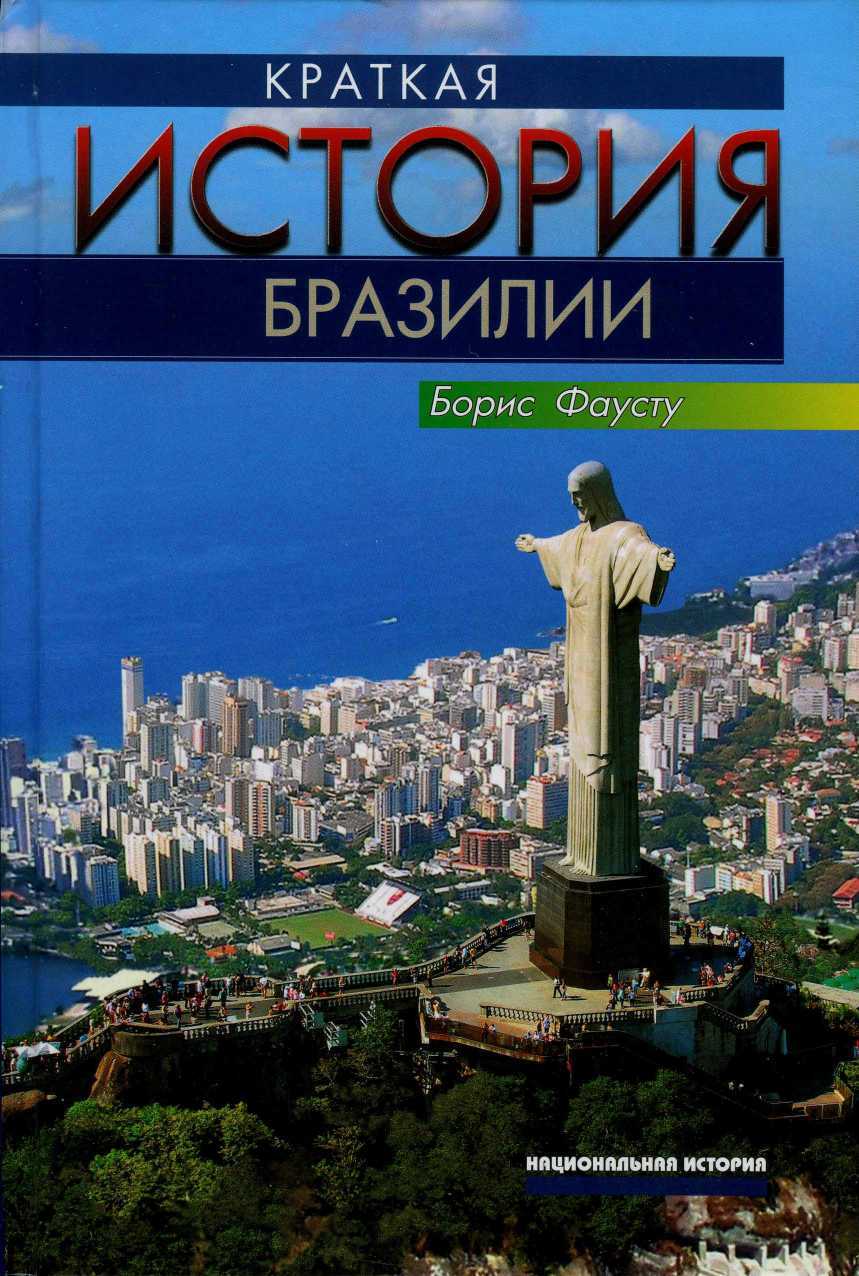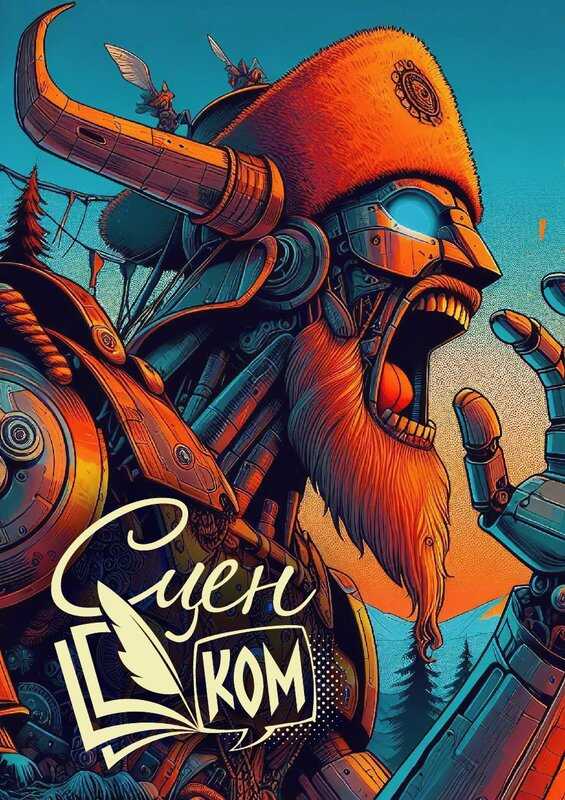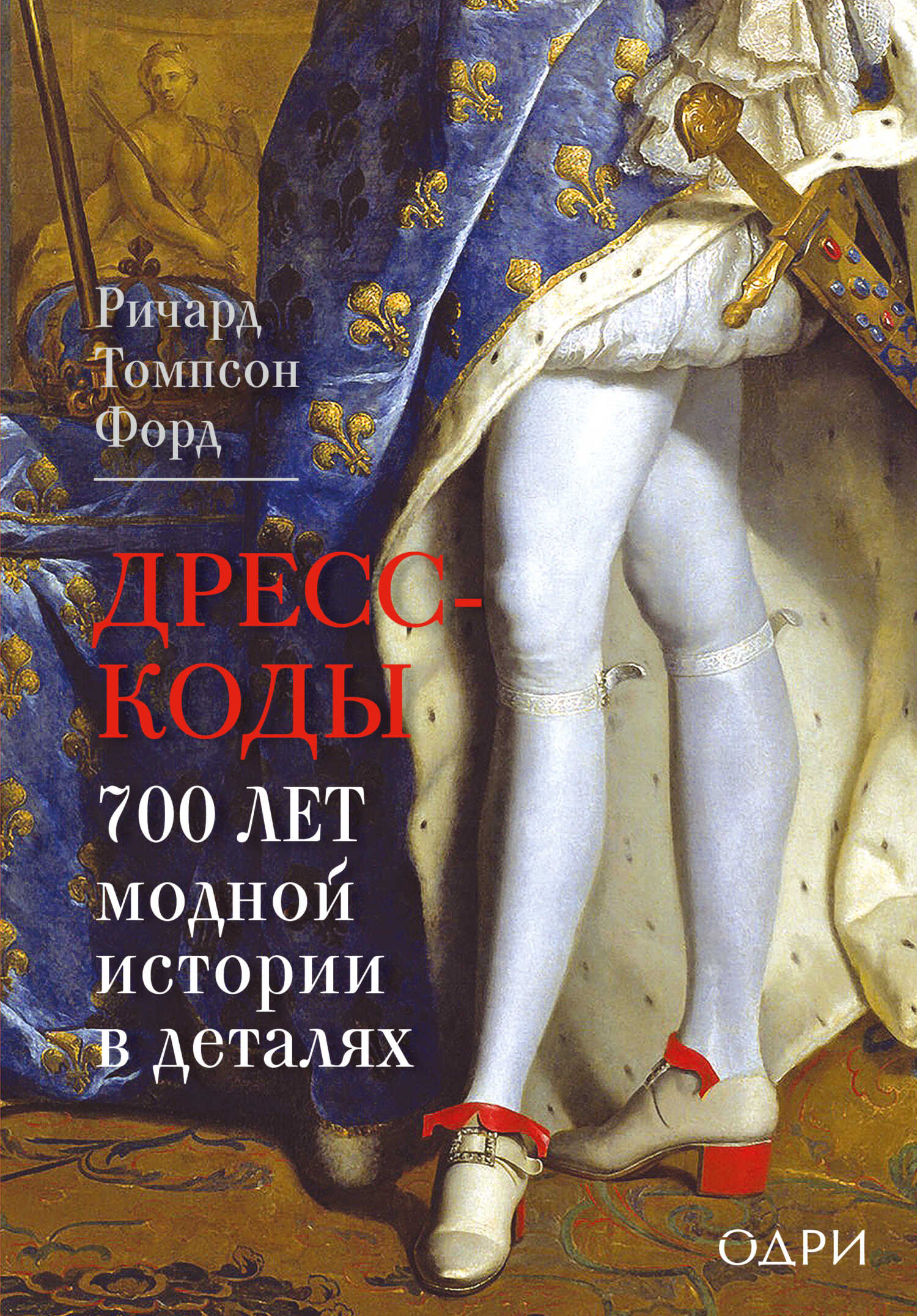Ознакомительная версия. Доступно 48 страниц из 237
Ричард Коэн
Творцы истории
Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом
Посвящается Кэти…
…и его преосвященству Элреду Уоткину, бенедиктинцу, которому я обязан любовью к истории и который одно из моих школьных сочинений сопроводил комментарием: “Что это за чепуха?”
Прежде чем изучать историю, изучите историка.
Э. Х. Карр, “Что такое история?” (1961 г.)[1]
За всякой историей стоит история – например, жизнь историка.
Хилари Мантел, из Ритовских лекций (2017 г.)
Richard Cohen
Making History
The Storytellers Who Shaped the Past
© NARRATIVE TENSION, INC., 2020
© И. Кригер, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО “Издательство Аст”, 2025
Издательство CORPUS ®
Предисловие
Некто задается целью нарисовать мир. В течение многих лет этот человек населяет пространство образами провинций, царств, хребтов, бухт, кораблей, островов, рыб, комнат, инструментов, светил, лошадей и людей. Незадолго перед смертью он открывает, что этот неспешный лабиринт отображает черты его лица.
Хорхе Луис Борхес (1960 г.)[2]
Сначала – о себе. В сентябре 1960 года я поступил в Даунсайдскую школу, в английской глубинке, в получасе езды от древнего города Бат. Школой – католическим заведением для мальчиков – управляло Даунсайдское аббатство: подразделение бенедиктинской общины, учрежденной в Австрийских Нидерландах четырьмя веками ранее и изгнанной в Англию в период Французской революции.
Меня зачислили в группу из двенадцати мальчиков в возрасте от тринадцати (а мне было именно столько) до пятнадцати лет, которым предстояло изучать историю Средних веков. Особое внимание мы уделяли ликвидации монастырей при Генрихе VIII, а главным авторитетом в этом вопросе выступал Дэвид Ноулз, тогда кембриджский профессор истории Средних веков. Отношение Ноулза к монахам в миру было строгим: “Они получили по заслугам”. Лишь к концу пребывания в Даунсайде я узнал, что Ноулз сам был там монахом и по неясным причинам покинул обитель лет за двадцать до того. Мне в голову пришло, что на мнениях Ноулза наверняка сказалось его пребывание в ордене.
После окончания школы я задумался о других авторах, которым мы обязаны тем, как постигаем прошлое. Как их жизнь повлияла на работу? Читая Джона А. Лукаса, я отметил, что у слова “история” два значения: не только само по себе минувшее, но и его описание, и потому всякий автор исторического сочинения есть истолкователь (или истолковательница), преобразующий историю фильтр.
Перечень трудов (даже исключительно на английском языке) о природе истории и о тех, кто ее изучал, велик, и он оставляет много места для самостоятельных поисков. Ближе всего к задуманному мной книга “История историй” (2009) покойного Джона Барроу, который заперся в своем оксфордском кабинете с тридцатью семью избранными текстами[3] и выдал собственное авторитетное сочинение. Барроу указывает, что “почти всех историков, за исключением скучнейших, отличает определенная слабость: отчасти сопричастность, идеализация, отождествление; отчасти возмущение, желание восстановить справедливость, донести посыл. И отсюда нередко проистекает самое интересное в их сочинениях”[4]. Далее Барроу рассматривает, как со временем, под воздействием политических, религиозных, культурных и патриотических факторов, менялось изображение событий минувшего. Но он сосредоточился на древней и средневековой истории, и его в гораздо большей степени занимала историография, а не личности историков. Здесь наши пути расходятся.
Эдуард Гиббон (его рассказ о крушении Римской империи – одна из знаменитейших исторических работ) написал и автобиографию (шесть очень разных версий). Он хорошо знал, что рассказы о прошлом – это по необходимости плоды ума. В неизданной рукописи (Mèmoire sur la monarchie des Mèdes) он размышлял:
Всякий пишущий историю гениальный человек вкладывает в нее – возможно, неосознанно – черты своего собственного духа. У его героев, несмотря на разнообразие страстей и положений, будто бы одна манера мыслить и чувствовать: манера автора[5].
Эти выражения – “гениальный человек”, те, кто “пишет историю”, “манера автора” – требуют разъяснений. Ниже я попытаюсь это сделать, учитывая научное соперничество, требования покровителей, необходимость зарабатывать на жизнь, физические недостатки, перемену моды, культурное давление, религиозные верования, патриотические чувства, любовные отношения, жажду славы. Я также стремлюсь рассказать о смене представлений о том, кто такой историк, и объяснить, почему великие историки именно так, как вышло, изложили свое видение прошлого. Рассказывают, что Мартин Хайдеггер однажды начал семинар словами: “Аристотель родился, работал и умер. Теперь рассмотрим его идеи”[6]. По-моему, такое разграничение едва ли имеет смысл.
Я остановился на авторах, чьи книги выдержали проверку временем: Геродота и Фукидида, Тита Ливия и Тацита, а далее Фруассара, Гиббона, великих историков XIX века до наших дней. Кроме того, я уделил внимание Уинстону Черчиллю (ни в коем случае не великому историку, однако и важнейшему участнику событий, автору в высшей степени убедительному и популярному) и таким фигурам, как Саймон Шама и Мэри Бирд, слава и влияние которых многократно возросли после появления их на телеэкране.
Использовать избранное заглавие может быть самонадеянным, ведь “история” может уместнее выглядеть в скобках: у нее, скажем так, непростое прошлое. При отборе персонажей я в большей степени ориентировался на их “влиятельность”, чем на присутствие в некоем общепризнанном пантеоне. Удивительно, сколь многие из оказавших глубокое влияние на нашу историю людей не назвали бы себя историками. Почти четверть века назад чернокожий историк Уилсон Дж. Мозес отметил: “Историческое сознание не является ни самостоятельным продуктом, ни исключительным достоянием ученых-профессионалов”[7]. Поэтому я остановился здесь на авторах Библии, нескольких романистах, драматурге Уильяме Шекспире (и сужу о нем как о человеке, сформировавшем представления о прошлом у аудитории большей, чем у любого историка или беллетриста) и авторе знаменитого дневника Сэмюэле Пипсе. Кое-кто скажет, что записи Пипса – в большей степени первоисточник, нежели историческая работа. Я считаю их и тем и другим, причем в первую очередь рассказом о том, каково было жить английскому буржуа во второй половине XVII века. Дневники – это также и род потаенной истории, намеренно скрытой от посторонних глаз, шепоты, противоречащие громогласным заявлениям сильных мира сего. Лучшие дневники периода Второй мировой войны принадлежат женщинам (в Италии – Айрис Ориго, в Голландии – Анне Франк, в Германии – Урсуле фон Кардорф). При этом в некоторых странах, например в Австралии, ведение дневника
Ознакомительная версия. Доступно 48 страниц из 237