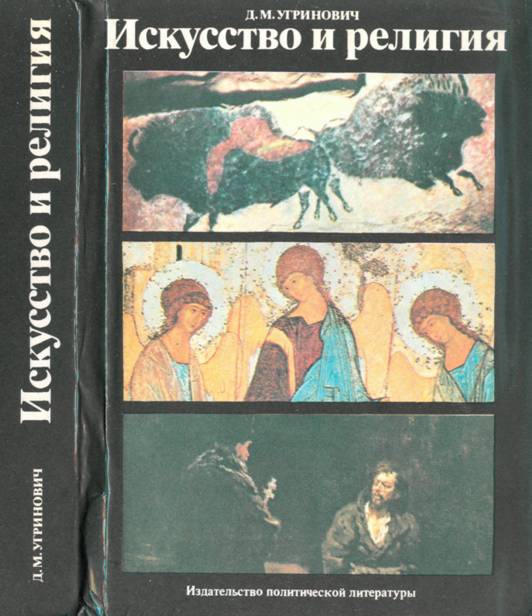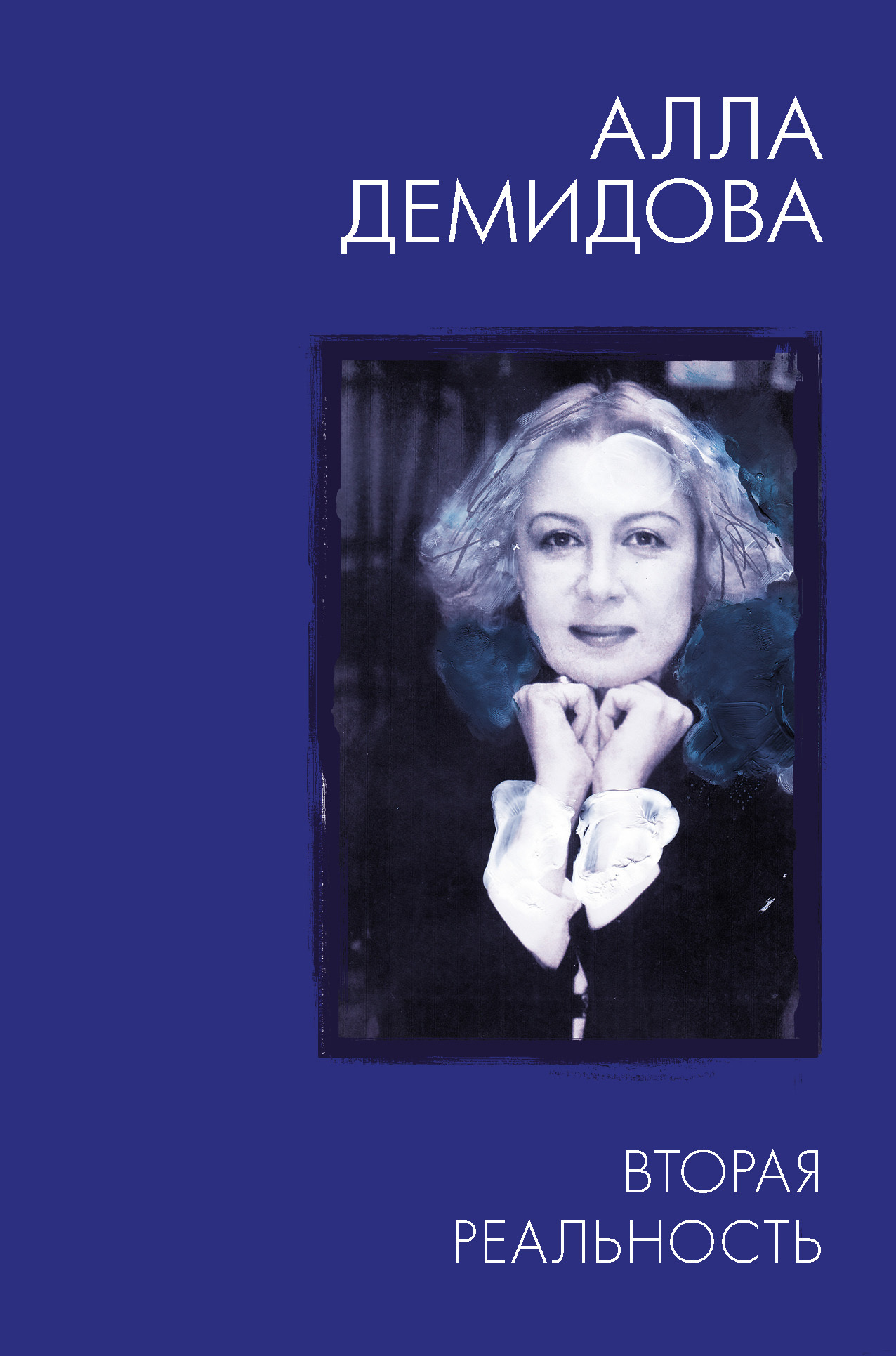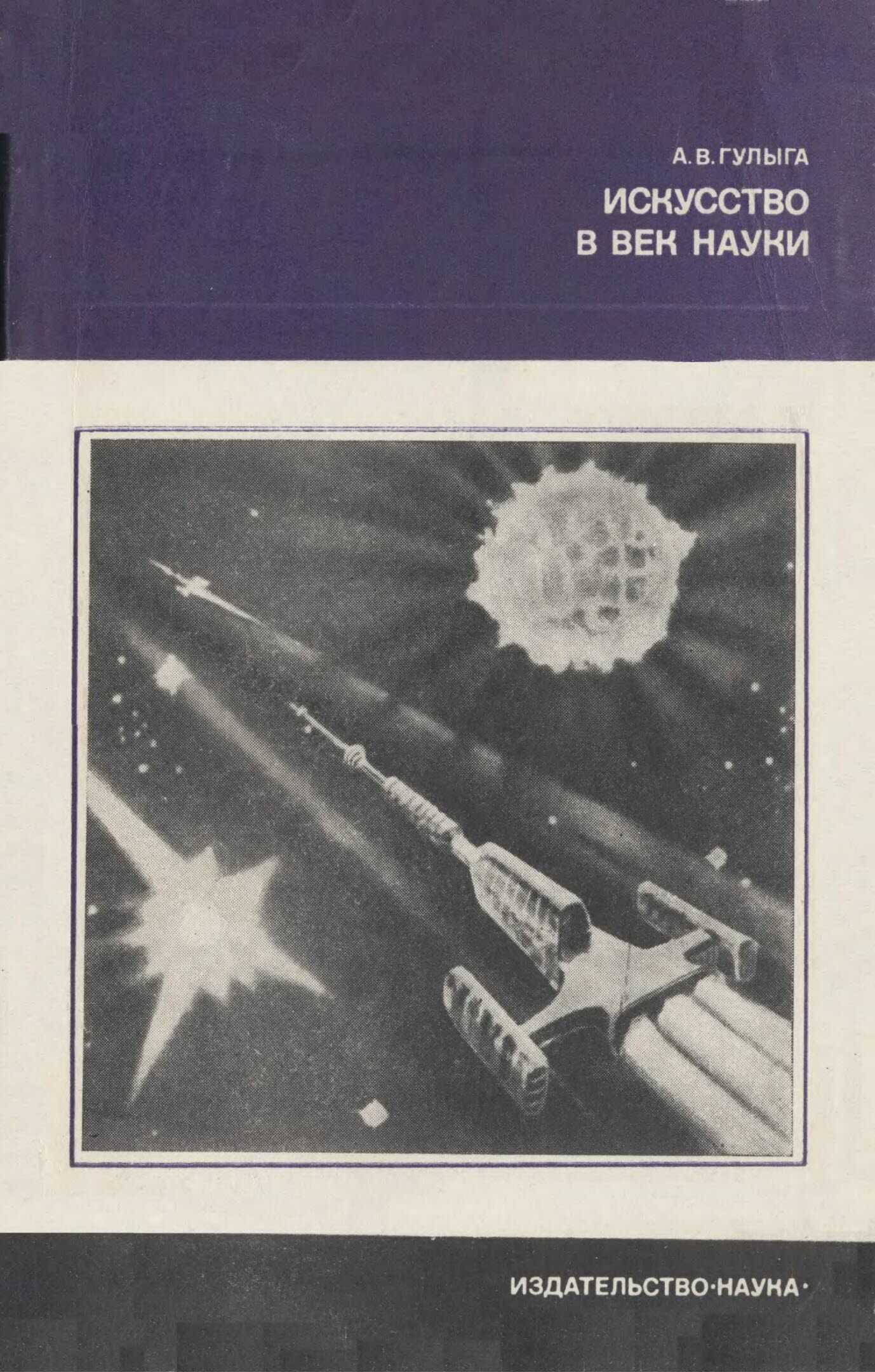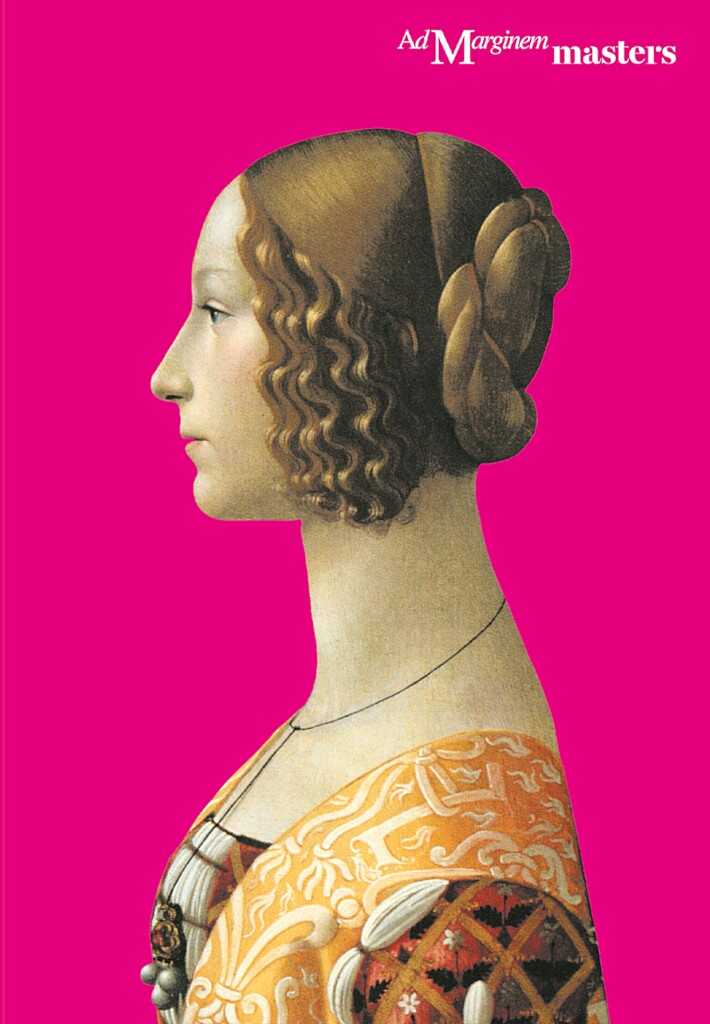и малозаметны в большом пространстве театра.
Для того чтобы сделать сценичным переживание внутренних невидимых образов и страстей роли, надо, чтобы форма их воплощения была выпукла, ясна, заметна на большом расстоянии, отделяющем артистов от зрителей. Надо искусственно подчеркивать сценические приемы выявления, преувеличивать их, пояснять, показывать, наигрывать ради большей наглядности. Словом, необходима известная доля театральности, подрисовки, которую и дает искусство артиста. Подумайте, ведь речь идет не только о простой внешней фабуле, а о внутренней жизни человеческого духа, которую мы должны представлять на сцене, а если для изображения простой и понятной фабулы пьесы требуется ради большей ясности подчеркнутая игра артиста, то тем более она необходима там, где идет о душевных образах, страстях роли, которые нельзя ни видеть, ни слышать. Только через наглядную сценическую форму можно передать со сцены если не самое подлинное чувство, то его телесное проявление, подмеченное в момент переживания при подготовительной работе.
На сцене важно и нужно не само переживание, а его наглядные результаты.
В моменты публичного творчества важно не то, как переживает и чувствует сам артист, а то, что чувствует смотрящий зритель…
– Сценическое создание должно быть убедительно, – возразил Рассудов, – должно внушать веру в свое бытие. Оно должно быть, существовать в природе, жить в нас и с нами, а не только казаться, напоминать, представляться существующим.
– «Бытие»? Странное выражение, – возмутился Ремеслов.– «Существовать в природе», «представляться существующим». Это непонятно, неудачно отредактировано.
– Не нахожу, – парировал Рассудов.
От конфуза и волнения его лицо покрылось пятнами.
– Гоголь хорошо говорит об этом в письме не то к Шуйскому, не то к Щепкину, – почти прошептал, как бы извиняясь, Неволин. Он был очень смешон в момент конфуза, не знал, куда деваться, запускал всю пятерню глубоко за ворот и ворочал пальцы под воротником, точно поправляя его. Эту работу он производил с большим усилием, напряженным вниманием.
Рассудов строго посмотрел на Неволина и поторопил:
– Что же говорит Гоголь?
– Не поручусь за точность, но что-то вроде: «передразнить образ может каждый, а стать образом – только таланты». – Неволин тотчас же законфузился еще больше. – Впрочем, я, может, того… невпопад. Мне показалось, что это… как будто подходит, что ли… складно. Впрочем, простите…
Совсем запутавшись, он замолчал, а Рассудов снова наклонился к рукописи и начал читать пониженным голосом, в котором звучала нотка недовольства.
Кто-то слегка дотронулся до моего плеча – оказалось, артист Неволин, который тоже играл в этот вечер и выходил на сцену вместе со мной. Он кивком указал в сторону двери, как бы говоря этим, что пора идти. У меня екнуло сердце, но я взял себя в руки.
– Тебе нездоровится? – спросил он мягко, пока мы шли на сцену.
– Угорел, – нехотя соврал я и подумал: – «И он заметил!»
Переступив порог сцены, я опять почувствовал себя одеревеневшими и растворившимся в огромном пространстве театрального зала и сцены.
Кроме общего состояния, среди того, что было на сцене, на меня угнетающе действовали закулисная атмосфера и настроение декораций последнего действия. Дело в том, что мы, актеры, видим не только лицевую, но и обратную сторону каждой декорации, ее изнанку. Она имеет свои контуры, свою планировку, построение, весьма часто живописные и чрезвычайно неожиданные. Закулисное освещение разбрасывает во все стороны по причудливым углам световые пятна, которые еще сильнее выделяют тени. Все вместе и создает своеобразную закулисную атмосферу в каждом акте пьесы. В связи с выходом на сцену закулисное настроение каждого акта действует на артиста. Как на грех, изнанка декорации последнего акта, который мы тогда играли, напоминала мне о тяжелых минутах моей артистической жизни. В свое время при постановке пьесы последний акт мне не давался; я намучился с ним. Больше всего нервов и даже слез я оставил в великолепно обставленном коридоре, откуда выходил. Один вид его навевал на меня тяжелые воспоминания и вызывал актерскую тревогу. Стены и вещи заговорили мне о прошлом.
«Еще не хватало забыть слова!», – подумал я и испугался своей мысли. Страшно оказаться несостоятельным в самом элементарном требовании актерской профессии. В этот момент я вспомнил и ощутил состояние беспомощности актера, потерявшего текст роли. За последние годы я отвык от такого состояния и поспешил проверить себя, мысленно начав говорить слова предстоящей сцены. К счастью, слова сами ложились на язык, и это успокаивало до тех пор, пока одно слово вдруг не выпало и бесконечная нить последующих слов не оборвалась. Я искал в памяти утерянное слово, но от него осталось лишь ощущение ритма его произнесения. Я старался заменить слово другим – однозвучащим, но, чтобы найти его, необходимо было вспомнить всю мысль в целом, а я забыл ее. Я хотел вернуться к тексту – выше, чтобы захватить мысль с ее корня, – но оказалось, что забыл и самую мысль. Я стал вспоминать содержание всей сцены, чтобы таким образом добраться до мысли, но не смог сосредоточиться и почувствовал себя растворенным в пространстве, не в силах собрать себя. Я бросился к помощнику режиссера и упросил его одолжить мне экземпляр, по которому он вел спектакль и выпускал артистов. Он было дал мне его, но едва я открыл страницу, как он выхватил у меня книгу и почти насильно вытолкнул меня на сцену, где произошла заминка благодаря запоздалому выходу. Сознание образовавшейся дыры в словесном тексте роли пугало меня и настораживало мое внимание. Я усиленно следил за своим языком и произношением и тем, конечно, мешал ему.
Обыкновенно благодаря набившейся привычке я сразу точно выплевывал всю фразу: произносил одним взмахом, нередко захватывая по соседству и часть другой фразы, – но на этот раз, боясь за текст, точно отгрызал каждое слово отдельно и, прежде чем сказать, цензуровал. Все спуталось: механическая привычка была нарушена, а прежняя верная линия творческого чувства забыта. У меня не осталось никаких основ, на которые я мог бы опираться. Казалось, что какой-то посторонний наблюдатель спрятался внутри меня и придирчиво следит за каждой оговоркой.
Нельзя есть, когда смотрят в рот. Нельзя играть на бильярде, когда говорят под руку. Нельзя произносить заученные слова роли, когда навязчивая мысль придирается, а внутренний голос не переставая шепчет: «Смотри, берегись, сейчас оговоришься! Вот забыл». И действительно: в голове уже появилось роковое белое пятно, и капли пота уже смочили шею и лоб, – но, к счастью, язык по привычной инерции перескочил через препятствие и понесся дальше, далеко впереди осознания и чувства, которые издали со страхом следили за храбрецом, еще не сознавшим опасности.
«Смотри, осторожнее, берегись, не споткнись!» – кричали ему издали испуганные мысль и чувство.
Но