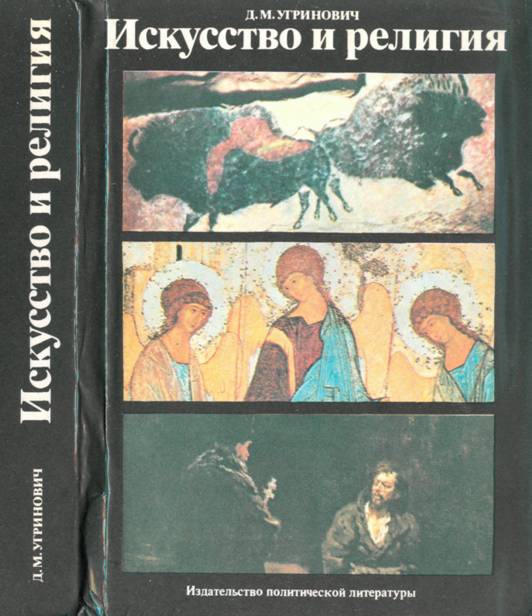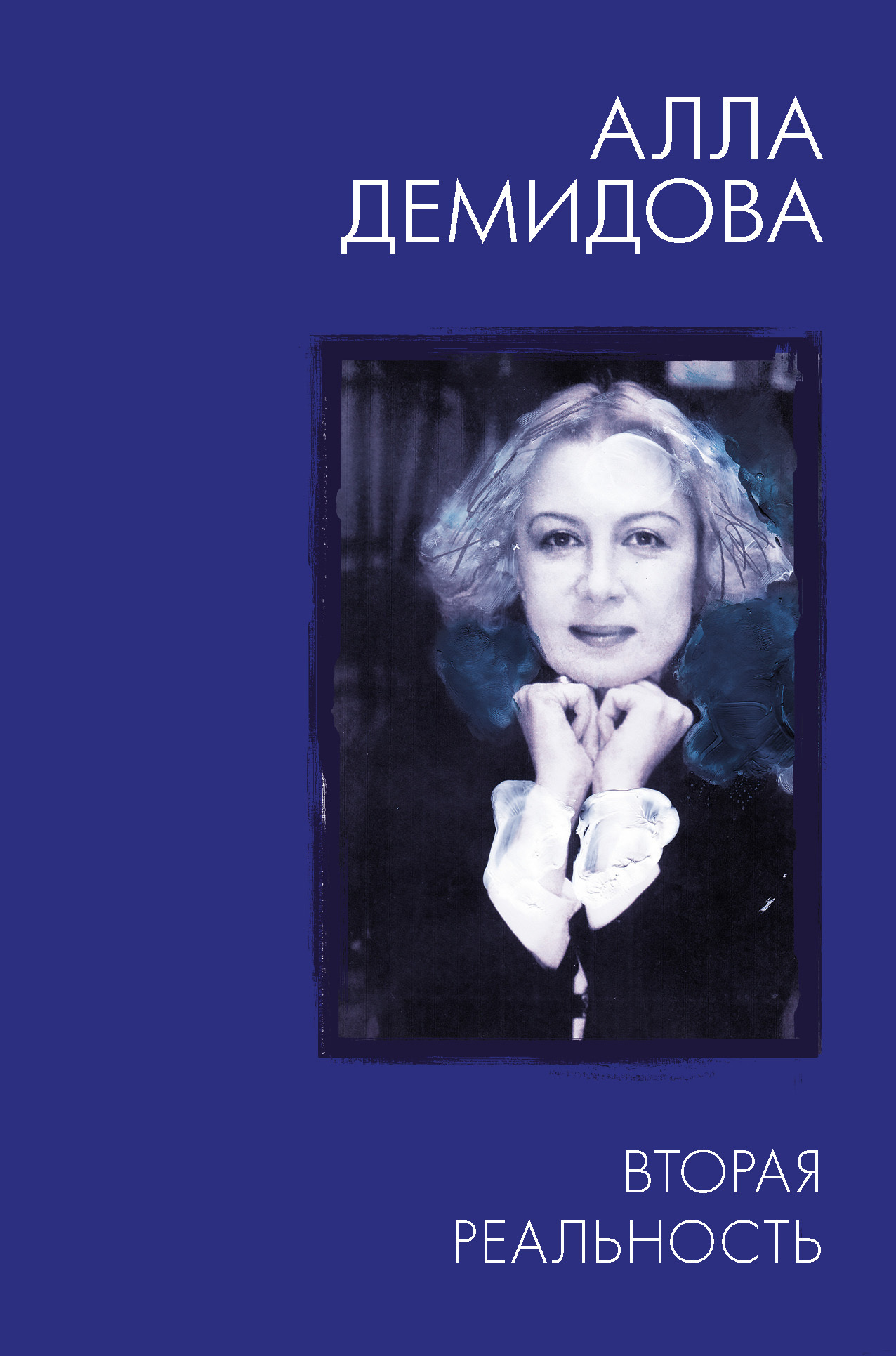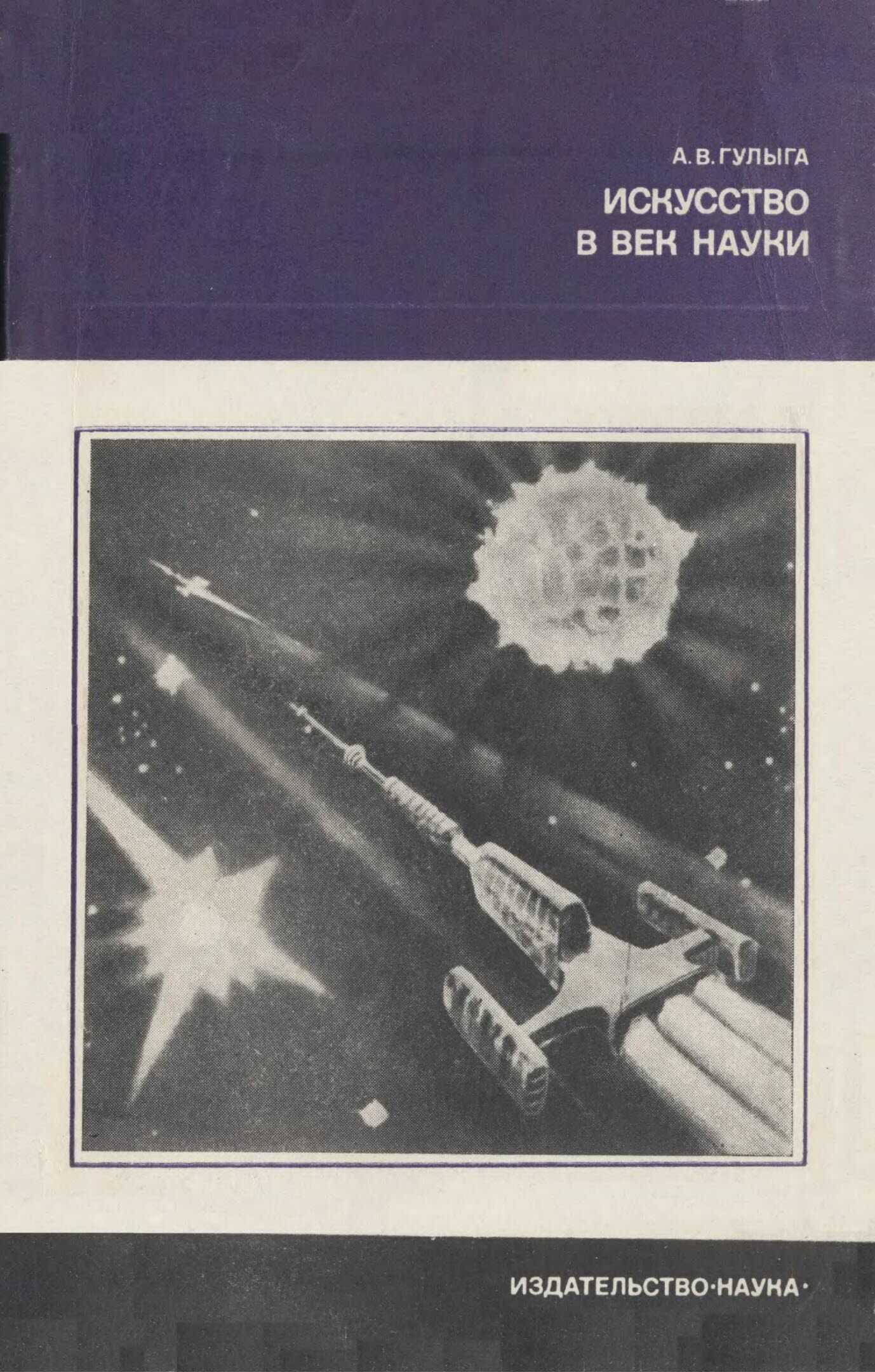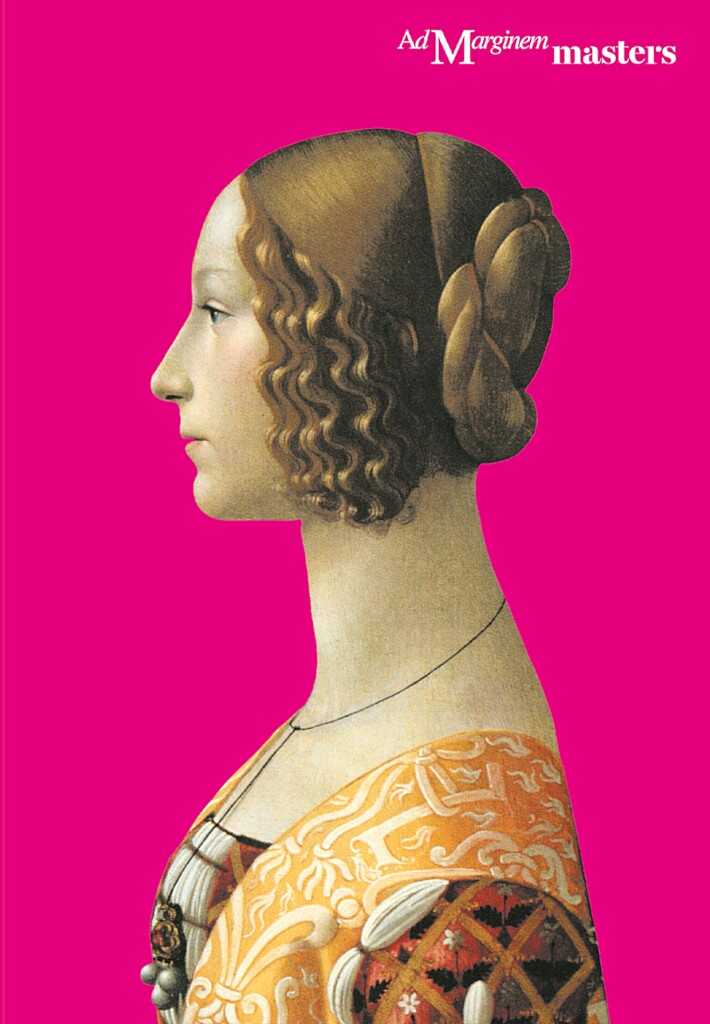вот – остановка. Все спуталось! Белое пятно! Пустота! Паника! Я растерянно стоял и повторял несколько раз одну и ту же фразу. Видел, как суфлер надрывался, но не слышал его; не понимал и того, что подсказывали мне актеры: я слышал их шепот, но не разбирал слов. Не зная, как спастись, я стал почему-то снимать с лампы абажур. Я это делал от беспомощности, потому что не мог придумать ничего другого, чтобы заполнить огромную пустую паузу. Спасибо помощнику режиссера, который ускорил выход новых действующих лиц. С их выходом пьеса опять покатилась как по рельсам. Я отошел в глубь сцены и постарался овладеть собой. Мускулы всего тела напряглись точно канаты, и мне казалось, что я сделан из дерева. Внимание разбежалось по всем направлениям театра. Опять портал сцены казался мне пропастью, страшной черной дырой. Опять через нее я видел тысячеглавую толпу зрителей. Мне чудилось, что они смеялись надо мной, показывали на меня пальцами, нагибались друг к другу, таинственно шептали, нарочно кашляли. А один из зрителей даже вышел из зала, демонстративно хлопнув дверью. Я почувствовал большую усталость, когда, обливаясь потом, ушел со сцены и направился в свою уборную. Заперев дверь на ключ, я нашел в темноте кушетку, тяжело опустился на нее и застыл в неловкой позе.
Долго я сидел так, не зная, за что приняться, точно оказался на необитаемом острове после кораблекрушения. Мне казалось, что я сразу потерял все; я чувствовал себя нищим, голым, принужденным заново строить всю жизнь, с позорным прошлым, о котором мне стыдно было вспомнить.
Рядом в уборной Рассудова продолжали спорить, но я не мог вникнуть в сущность их мыслей. Впрочем, я понял: там доказывали Ремеслову, что его искусство соответствует его фамилии, то есть что он проповедует не подлинное искусство, а лишь ремесло актера.
«Не только он, но и я, и вы, и мы все – ремесленники, – подумал я. – Пусть на сцене остаются только гении да таланты, а всех остальных – и меня первого – вон со сцены! В контору, в магазин, в деревню, на полезную работу!»
Уставший от всех пережитых волнений, я лег на кушетку.
Мне надоело все, и я решил думать о чем-нибудь не имеющем отношения к театру. «Говорят, на луне нет теней и удельный вес тела легче, можно подпрыгнуть и целую минуту висеть в воздухе… Приятно это или нет?»
Некоторое время я представлял, как хожу по равнине без своего вечного спутника – тени, мысленно перепрыгивал через пропасть.
Но это занятие мне скоро надоело. Тем не менее экскурсии на луну меня отвлекли, успокоили; я лежал, ни о чем не думая.
Потом я стал прислушиваться к спору в соседней уборной.
– Что хорошо в одной плоскости – совершенно нетерпимо в другой. Например, в нашем театре при тех задачах и при том плане постановки, при том материале, который умеет давать Творцов, не хватит ста, двухсот репетиций. И чем больше их, тем шире развертывается и самый план. И так до бесконечности. Нередко труднее всего вовремя остановиться и поставить точку. А что было бы, если бы провинциальной труппе, которая не умеет вырабатывать большого и широкого плана, предложить миллионы, с тем чтобы она сделала двести репетиций?
– Спектакль не мог бы пойти, – с гордостью заявил Ремеслов.
– Вы правы. Хотел бы я посмотреть актеров после пятой или десятой репетиции. Считки сделаны, роли выучены, и даже почти без суфлера, места и все, что следует, отрепетировано, седенький паричок с бачками заказан. Костюм – известно, какой полагается! Нужна публика, подъем, а остальное сделает вдохновение! А тут впереди еще двести тридцать или двести сорок репетиций! Что же делать на этих репетициях? Повеситься можно от отчаяния.
– Разбегутся, никакими деньгами их не удержишь, – опять почти с гордостью заявил Ремеслов.
– А мы-то… после двухсотой репетиции вздыхаем: вот, если бы еще репетиций сто, тогда можно было бы добиться того, что напридумали режиссеры, – сказал Чувствов.
– Ведь это же ненормально, господа! Во что же обходится пьеса? Как же вести такое дело! – возмутился Ремеслов.
– Ничего, существуем, дивиденд такой выдаем, что скоро паи на бирже котироваться будут! – парировал Ныров. – Антрепренеры завидуют.
– Нет, воля ваша, но это ненормально, – разволновался Ремеслов. – Нельзя так затаптывать пьесы и роли! Актер так создан, что ему необходимы в известный момент полный зал, подъем, волнение, вдохновение, оркестр, подношения.
– Штоф водки, – сострил кто-то.
– Да-да, и вино, и женщины!
– На спектакле-то, бесстыдник! – сострил другой.
– Позвольте, а Кин?.. – добавил Ремеслов.
– Вот вы всегда так, провинциальные таланты! – заметил Чувствов. – Как только не можете ответить прямо, так начинаете восклицать общие слова, штампы, которые ничего не означают. Вино! Женщины! Порывы! Вдохновение! Когда говорят об искусстве и артистах, полагается произносить эти слова. Как будто это кого-нибудь из нас убеждает! Вы отвечайте по существу: почему мы можем провести двести и триста репетиций, а вы не можете?
– Почему мы не можем – это я знаю, – съязвил Ремеслов, еще более нервно и часто поправляя пенсне на золотой цепочке. – Но как вы выдерживаете это количество репетиций – не понимаю.
– Я вам объясню, – вмешался Рассудов. – Секрет в том, что режиссеры и сами артисты так глубоко вскрывают душу пьесы и ролей и с каждой репетицией так расширяют план постановки, что и двухсот репетиций не хватит для того, чтобы перенести на сцену все, что мерещится. Провинциальный же актер, который привык играть не пьесу, а роль, ищет в ней то, что у него хорошо удается, что подходит к его данным и приемам игры. Это всегда одно и то же, всегда то, что он в себе отлично знает, то, что само собой прилипает к нему в каждой роли. Он самим собой окрашивает каждую роль. Много ли времени нужно для того, чтобы отыскать этот материал и произвести подобную работу над пьесой? Раз-другой внимательного чтения. Что касается плана – он всегда один и тот же во всех ролях. В первых актах – порезонировать, блеснуть дикцией, манерами, голосом. Где-нибудь в одном-двух местах дать нерв. Во втором акте сыграть одну сцену, а остальные – на технике. В третьем акте пустить весь темперамент, все приемчики, все штампы, все обаяние – словом, все, что берет за сердце зрителей в самой главной, кульминационной сцене. В последнем акте подпустить сентиментальность и несколько слезинок. Далее, если первую сцену вели слева, на авансцене, где обыкновенно в светских пьесах ставится знаменитая софа и за ней роскошные ширмы, то следующую сцену полагается играть справа, где стол, стул, а потом