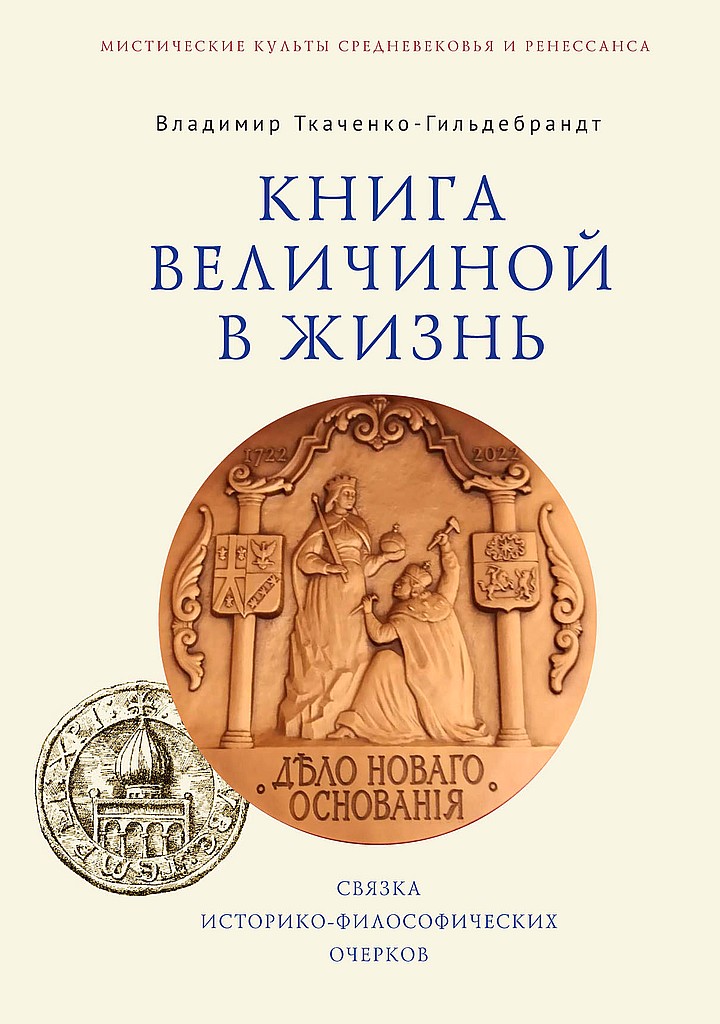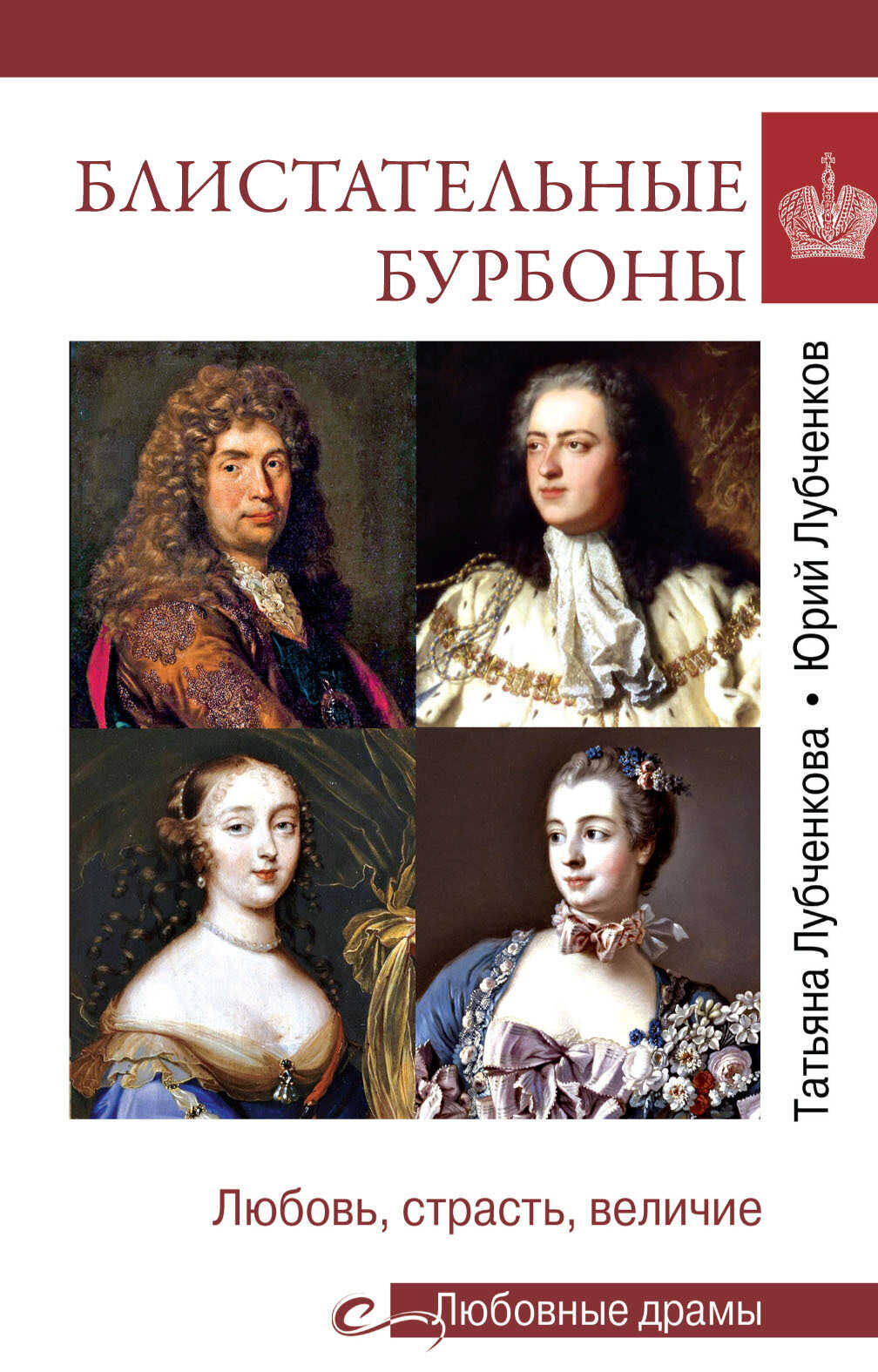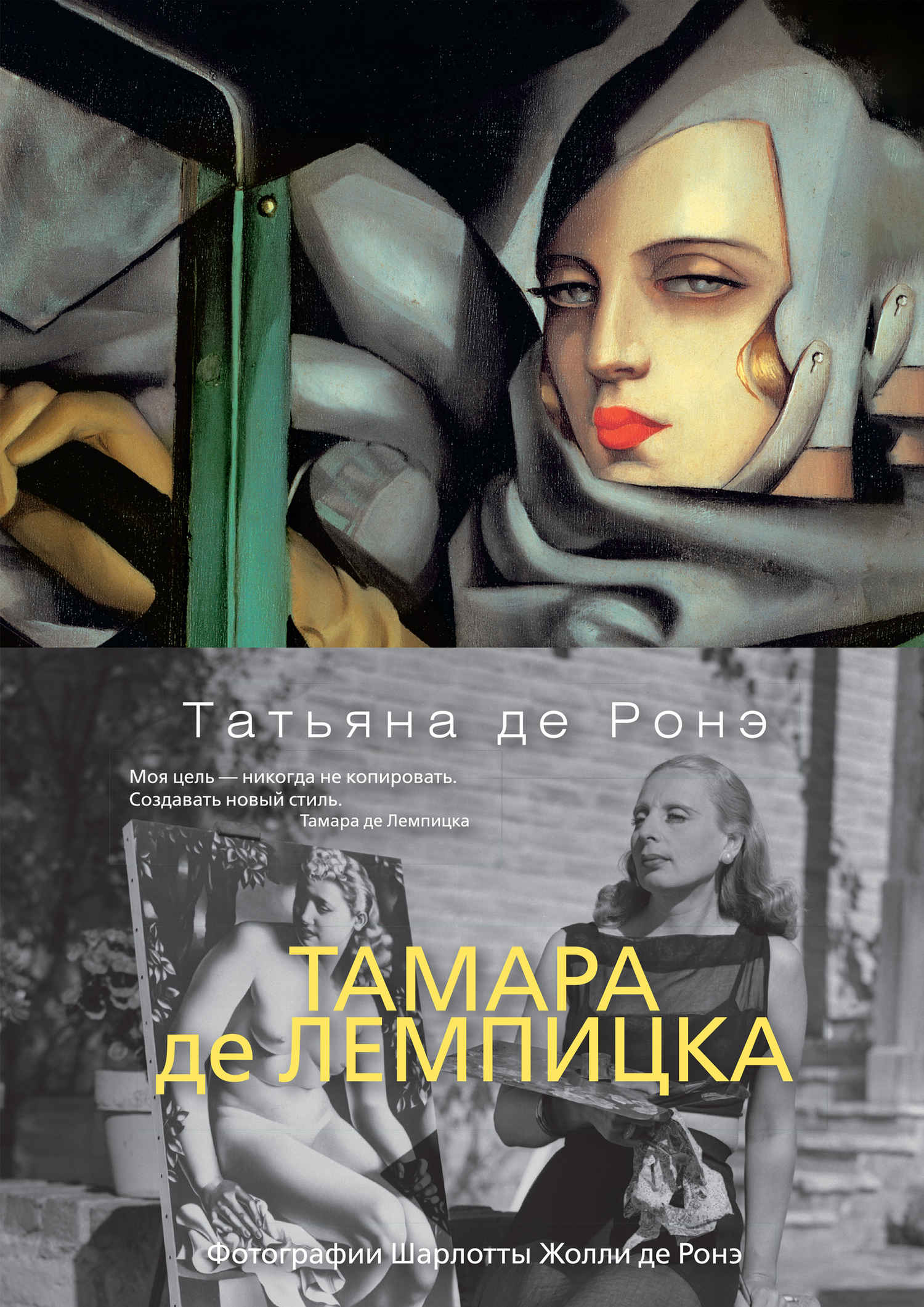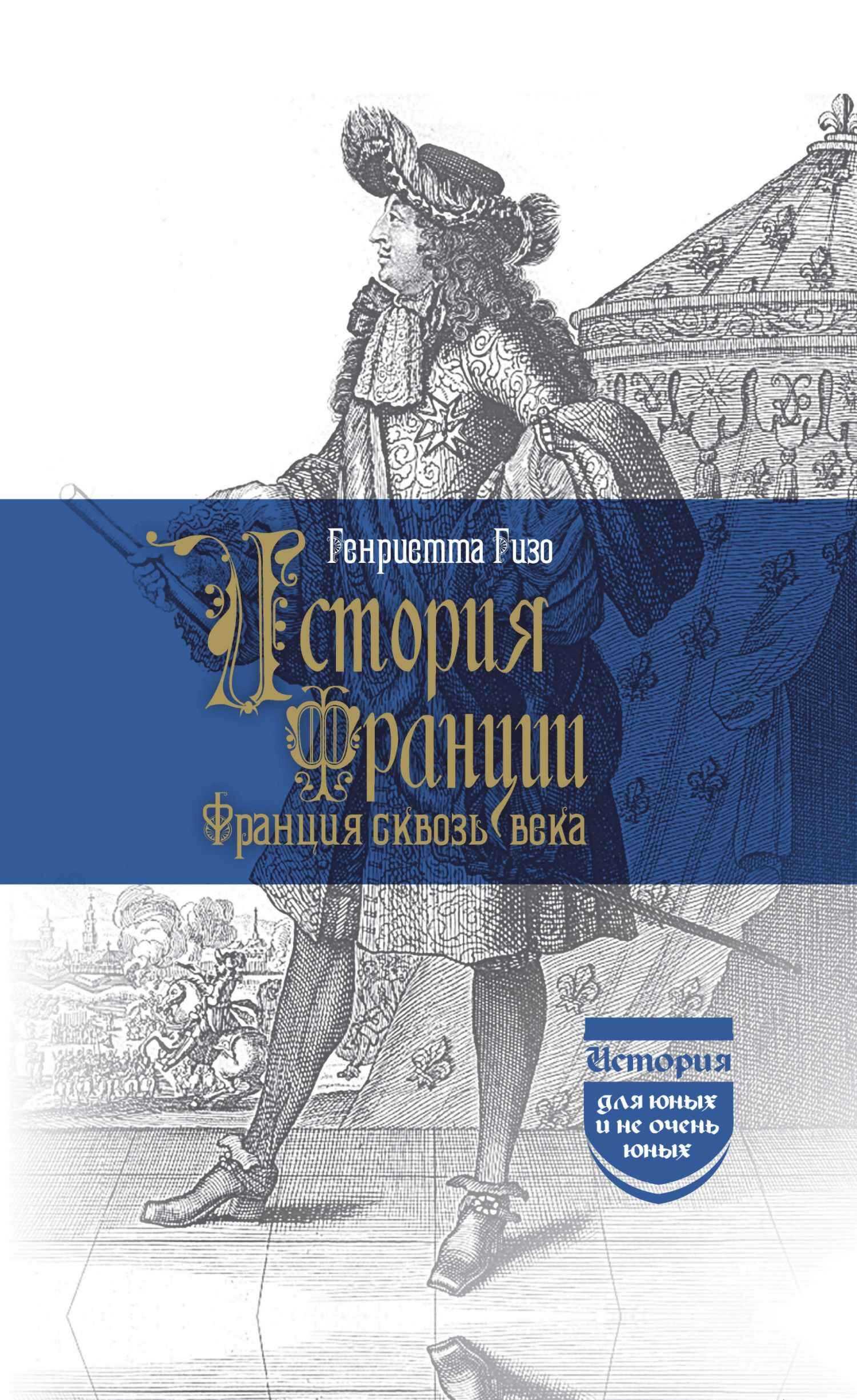воззрений, подвергавшихся напористой критике со стороны одного из них и не сбавляющей обороты на протяжении тридцати лет; критика другого скорее заключалась в подразумеваемых оговорках и значимых умолчаниях в моих глазах: речь идет об Анри Давансоне (Henri Davenson) и Рене Нелли.
Вот как профессор Анри I Марру (это настоящее имя Давансона) подытоживает в своей драгоценной маленькой книге, озаглавленной Трубадуры (1961 и 1971 гг. издания) аргумент нашего «tenson» («напряжения» по-провансальски), ознаменованного острыми нападками в журнале Дух (Esprit) еще в 1939 году:
«Я упрекну его в диалектической ярости, в тигле которой уничтожаются противоречия и всякое разнообразие сводится к единству: все сливается, смешивается и сплавляется, – не только трубадуры и катары, но и окситанская куртуазность с кельтскими легендами (пред-катарский Юг оказывается родственным гаэльским Кельтам и галлам), неоманихейское течение и арабское влияние (пусть даже оно перекатывается контрастирующими волнами Аль-Халладжа и Ибн Давуда): все это идет не с Востока, и в довершении разве они не представляют в западном человеке возвращение символического Востока? Я особенно оспариваю значимость уподобления между куртуазной любовью трубадуров и определением «страсти», всецело происходящей через Тристана Вагнера и его Шопенгауэра из чистейшего немецкого романтизма».
Да, в этом XII-м столетии, синоптический обзор которого я представил, менее подробно в отношении Юга, но более или менее полно в отношении Европы, чем то, что он нам сам рисует (p. 21-44), «все сливается», а иногда «смешивается» в реальности и нет смысла добавлять, что у меня «все соединяется»: это несчастье не снимает факта, но выделяет его.
Сразу перейдем к главному: Давансон оспаривает всякое уподобление между куртуазной любовью и любовью-страстью, скажем, между Бернаром де Вентадуром и Вагнером, и заключает, что «делать из трубадуров певцов взаимной несчастной любви, их, у кого ключевое слово «Радость», не что иное, как странная бессмыслица».
Бессмыслица, как мне представляется, от обратного: Joy, ключевое слово трубадуров, не обозначает радость в прямом французском смысле слова. Боюсь, что абсолютный контраст, который можно установить здесь между «нашими поэтами Лангедока… не перестающими говорить о lum и clartaz» и «сумрачной северной притчей», не основывается на клише: веселый-трубадур-превозносящий-весну, в то время как «Бретонцы», Кельты и другие воспевают Смерть.
Именно в объемном произведении Рене Нелли Эротика трубадуров (L’Érotique des troubadours, 1963) можно почерпнуть элементы более подлинного видения: Я цитирую со стр. 52 этого издания:
«Идея смерти от любви это одна из черт, которые, как нам кажется, составляют общую сущность арабской и провансальской любви». И, конечно, если мы видим, что «неудовлетворенная по сути любовь может выражаться только в форме стремления к смерти», то нам одинаково уместно утверждать, что трубадуры «умирали от любви, как мы умираем от жажды» (p. 73). Тем не менее, «любовь-погибель Арабов, по-видимому, соответствует смерти-от-любви окситанской эротики» (p. 251), и что для Гильема Монтанагола (Guilhem Montanhagol) «как и для древних трубадуров, тема смерти-по-желанию – для того, чтобы она по обыкновению совершилась – является орудием Завершения Любви – Fin’Amors» (p. 242).
Но больше того: умереть от любви, умереть на службе Даме и через сие служение стремиться ко спасению, идти к Богу, разве не является общей темой для трубадуров, арабских мистиков и, несомненно, для вящей дуалистической и манихейской ереси Средневековья?
Возьмите жизнь мою в дань почитания,
Красавица от милости жестокой,
Надеюсь, что одарите меня дерзанием
Чрез вас на Небо устремиться!
Так воскликнул Юк де Сен-Сирк. Однако мы можем прочитать у Массиньона в отношении Аль-Халладжа: «Поклоняться Богу только любовью является преступлением»; и в анонимном провансальском романе Фламенка влюбленный был вынужден клириком, чтобы приблизиться к слишком хорошо охраняемой даме: «Брат Гиллем делается катаром (s’apatarine), и он служит Богу в намерении своей дамы»; последнее, кажется, может означать (по крайней мере, для автора романа), «что ересь в поклонении Богу через женщину»[227].
Если это так, то ни катары, ни трубадуры не далеки от эндура любви, из-за которой умирает Тристан, и когда Изольда соединяется с ним в «высшей радосит».
Анри Давансон сам указывает (p. 41 и следующие страницы) до какой степени «Юг был знаком с богатым тематическим содержанием Бретани… в том числе с Поисками Грааля, Говейном, Персевалем, прекрасной историей о Тристане и Изольде». К приведенным им примерам (Серкамон, Барбезьё и роман Фламенка) мы могли бы добавить еще двадцать, не составляющих слишком большого значения[228]. Но сыграем на сложности, носящей имя Бернара де Вентадура.
В поэме, считающейся его шедевром, и в которой бьется сердце окситанского лиризма, canso Жаворонка, то все это изначально lum и clartaz. Но именно о начале сей песни Симона Вайль чудесно отмечает: «Несколько стихов трубадуров сумела выразить радость столь чистым образом, что сквозь нее просвечивает душераздирающая боль, неутешимая скорбь конечного творения»:
Коль вижу я стремленье жаворонка в небе
И радость встречную от крыл его,
Но кто самозабвенью предается, тот падает
От кротости, пришедшей в сердце…[229]
(Симона Вайль: «Когда эта страна была разрушена, английская поэзия восприняла ту же самую ноту, и ничто в современных европейских языках не может сравниться с изяществами, которые она заключает»).
Но уже во второй строфе вырывается поистине Тристанов вопль, вырванный любовью, которую поэт не может ни испытывать к той, «с кем у него никогда ничего не будет»:
Она моим всем сердцем овладела, она меня похитила у самого себя, она меня взяла от мира, а после ускользнула от меня, оставив только мне желание и жаждущее сердце!
И вот фатальная страсть и признаваемый нарциссизм:
Я над собою потерял всю власть, когда она мне разрешила в ее глаза взглянуть как зеркало, сколь нравится оно мне. О зеркало, с тех пор как я себя в тебе увидел, я умираю от своих глубоких вздохов, утратил я себя, подобно прекрасному Нарциссу, на гладь источника глядящего.
И вот обращение к изгнанию, всегда предстающему образом смерти:
Поскольку неприятно ей, чтоб я любил ее, то впредь я никогда об этом не скажу. Отныне расстаюсь с любовию своей и отрекаюсь от нее. Любовь убьет меня, и смертью я тогда своей отвечу ей[230]. И коль она меня не удержала, отверженным я удаляюсь в изгнание, куда не знаю сам.
Тристан[231], уж впредь ты, жалкий, не возобладаешь надо мною, ведь ухожу я, куда пока не знаю. Отказываюсь я от песнопений и отрекаюсь я от них. Вдали от Радости с Любовью я укроюсь.
Подобное же и в другом гимне