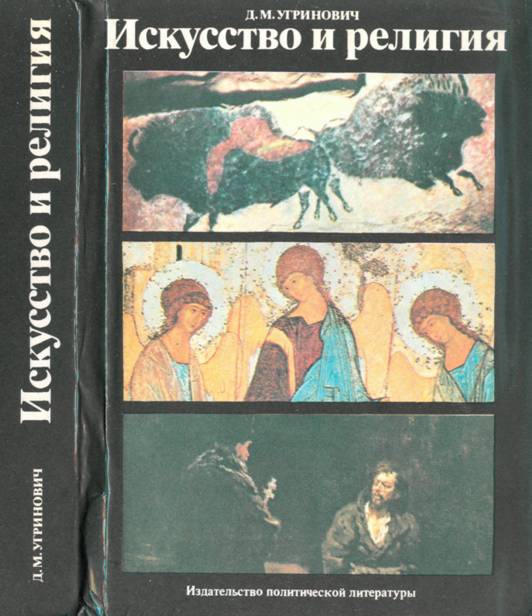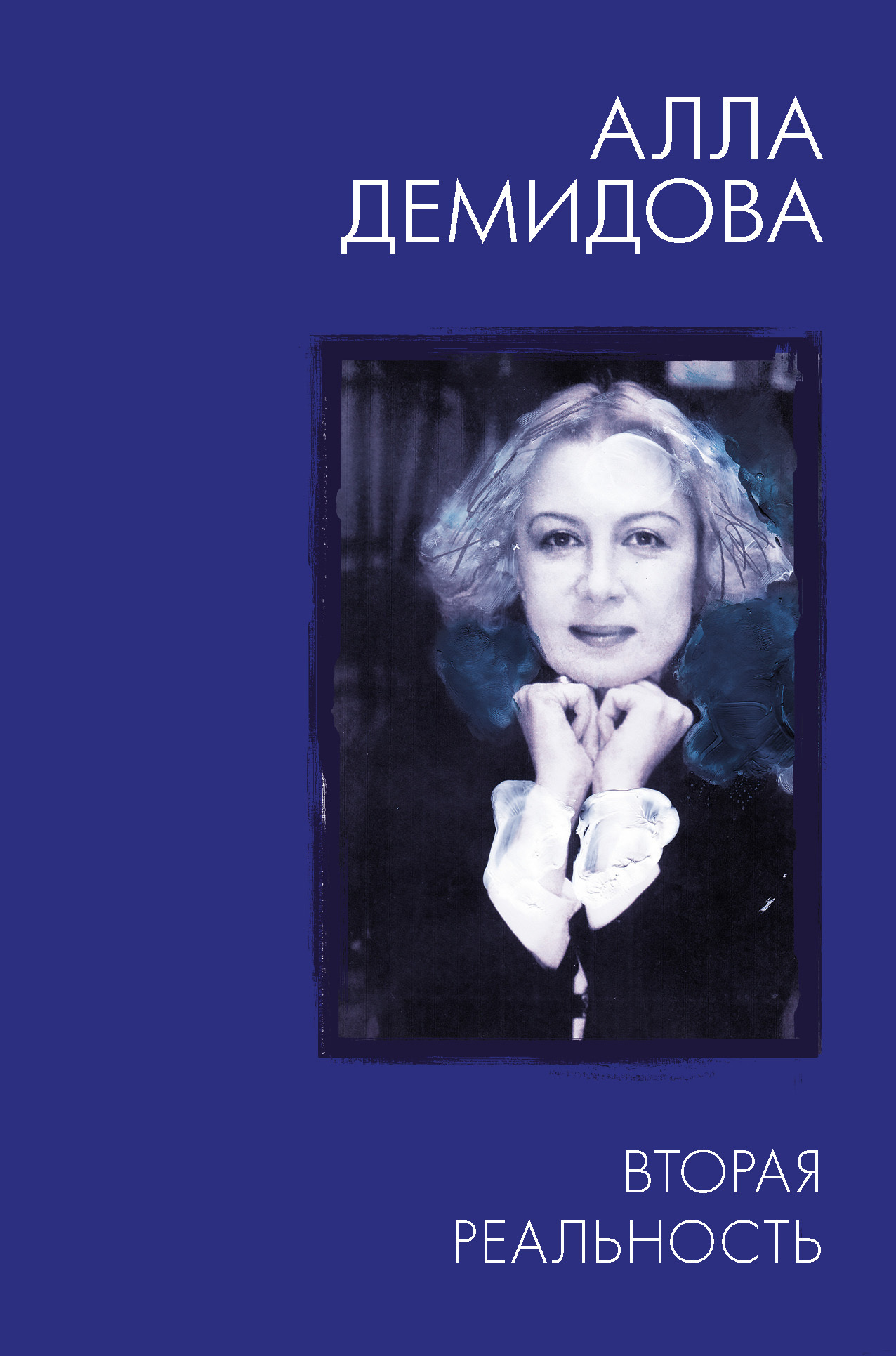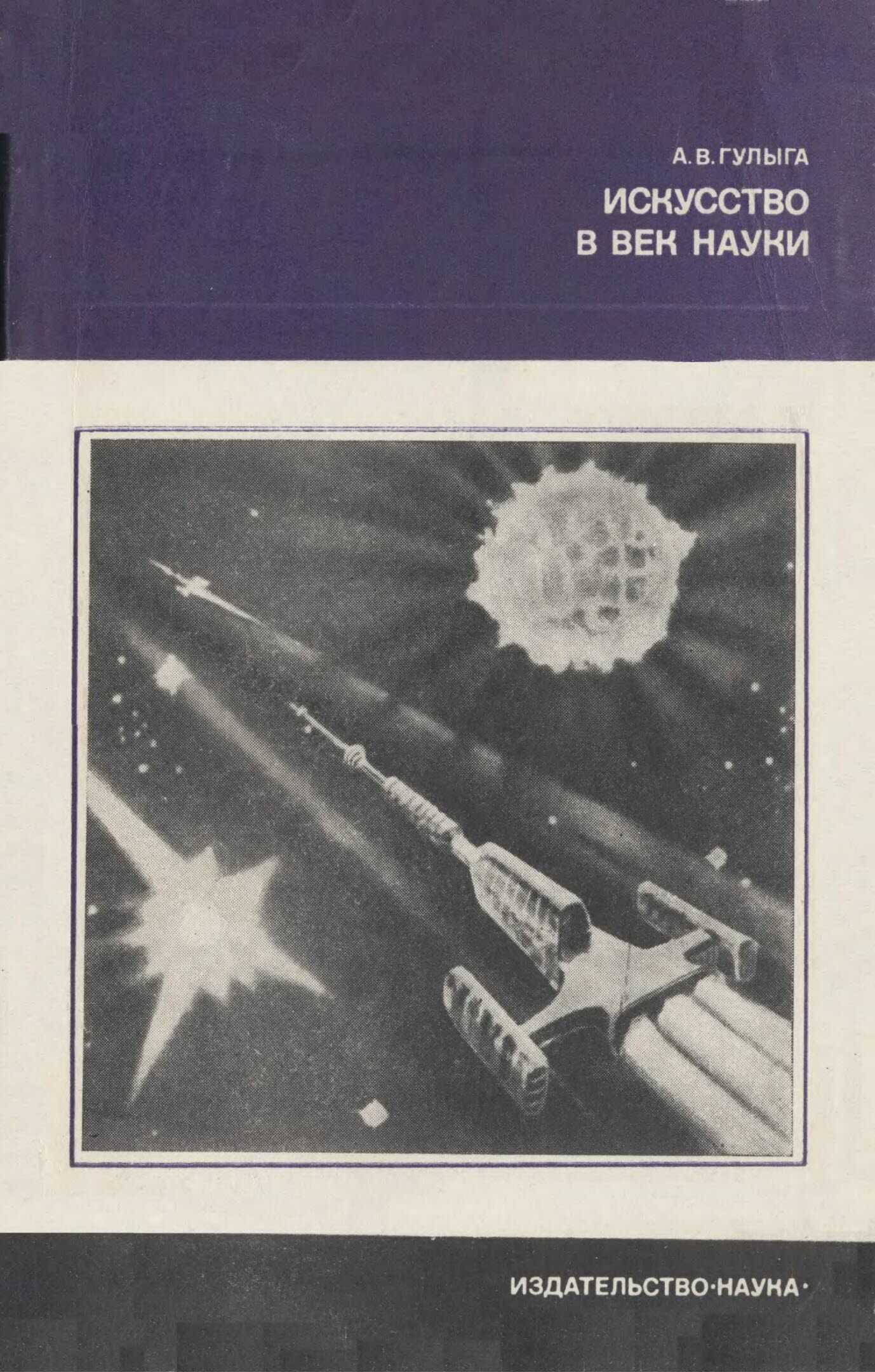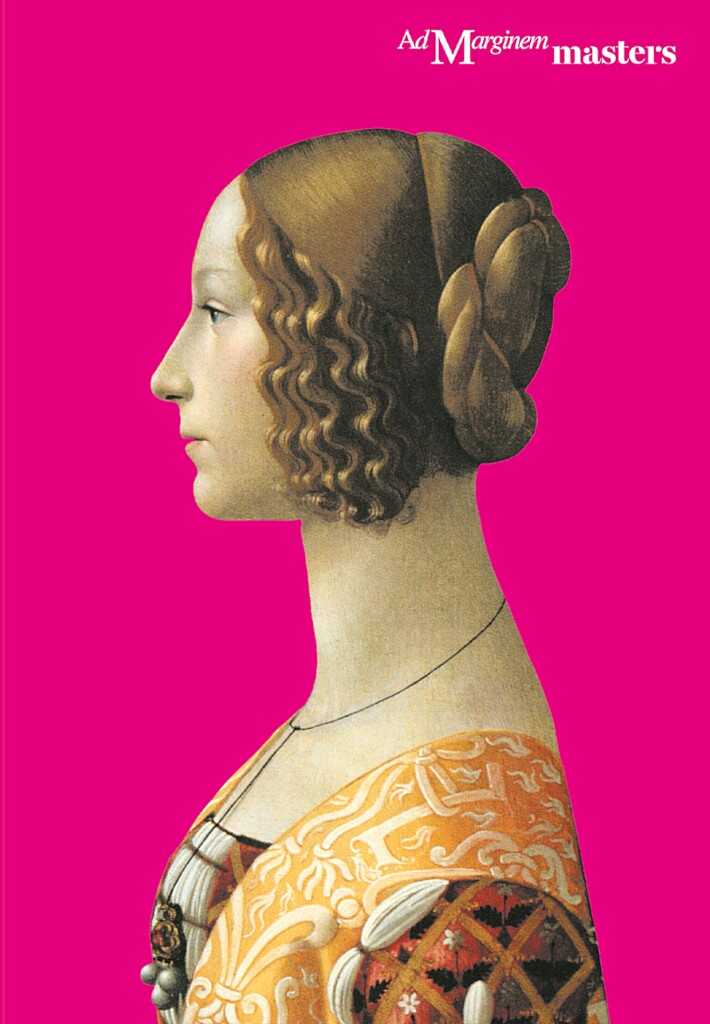можно провести сцену, стоя перед суфлерской будкой. Четвертую сцену можно уже опять играть на софе и так далее.
Для чего же нужны репетиции, когда все всем однажды и навсегда известно.
Вы хвастаетесь четырьмя репетициями в провинции, а я утверждаю, что больше одной некуда девать. Так что в результате не мы, а вы теряете время на три лишние репетиции и зря затаптываете пьесу.
Говорят, что для провинции необходимо двести новых пьес и постановок, иначе публика не пойдет в театр. А я искренне удивляюсь, как провинциальная публика высиживает один такой спектакль, состряпанный с двух репетиций. Я не выдерживаю и одного акта.
Говорят, что провинциальный зритель не будет смотреть несколько раз одну и ту же пьесу, даже если она идеально поставлена. А я знаю своих туляков, которые приезжали по десять раз в Москву специально для того, чтобы смотреть у нас в театре все одну и ту же пьесу, имевшую шумный успех; также знаю, что хорошо срепетированный ансамбль приглашали в один и тот же маленький провинциальный город с одной и той же пьесой более пяти раз.
Я никогда не понимал и еще одного обстоятельства, а именно: почему оперы «Трубадур» или «Травиата» можно слушать сотни раз, а философскую трагедию Ибсена «Бранд» не захочется смотреть второй. Скажут: «Помилуйте, это же музыка! Не сразу прислушаешься!» А я на это скажу: «Помилуйте, сложнейшая мысль, глубочайшие чувства, не сразу их охватишь!..»
Но я понимаю Ивана Вавиловича: при спешной провинциальной работе ремесло удобнее искусства. Мало того: только оно одно и возможно. Не до искусства там, где приходится ставить до двухсот пьес в сезон.
– Больше пятидесяти пьес в сезон я не ставлю, – возмутился Ремеслов.
– Вы слышали? – спокойно обратился к собранию Рассудов, чтобы подчеркнуть заявление своего оппонента. – Шутка сказать! Только пятьдесят постановок. Да, в ремесле количество играет главную роль, но в искусстве мы ценим исключительно качество. Чтобы стать гением и заслужить себе вечную славу, нужно создать не сотни хороших, а лишь одно гениальное произведение, будь то картина, книга, ноты, мрамор или роль. Грибоедов написал всего одну пьесу, но гениальную, художник Иванов – одну картину, Ольриджа, Таманьо да, наконец, и Сальвини мы узнали по одной прославившей их роли – Отелло. Всем им потребовались долгие годы для творческой работы. Но какое нам до этого дело – нам важно качество!
Таким образом, мы все говорим о качестве постановки, а Иван Вавилович все беспокоится о количестве. Мы в разных плоскостях – как ремесло и искусство…
Вдруг я вспомнил, что спектакль еще не кончен и что мне придется еще раз сегодня выходить на публику. Ужас охватил меня. «Вот бы сейчас случился какой-нибудь скандал, все перепуталось бы, и пришлось бы остановить спектакль! Или пожар! Или обвалился бы потолок! Тогда был бы естественный выход из моего безвыходного положения. На несколько дней прекратились бы спектакли, и я во время перерыва успел бы собраться с мыслями, ощупал бы новые основы для своего искусства.
Или захворать, чтобы долго не выходить на работу! Пусть теперь другие поработают за меня, если я так плох, – вдруг рассердился я, хотя и не знал на кого. – Или лучше всего убежать и скрыться, как Лев Николаевич Толстой! Да, именно скрыться, назло всем. Пусть не я один, а все виновники моего падения помучаются без меня! Пусть бегают, ругаются, теряют голову, не зная, что делать, как я сам теряю ее теперь! Пусть поймут, кого они не оценили вовремя.
Какой вздор! – ловил я себя тут же на слове. – Зачем искать виновного, когда он налицо. Виновник – я один. Меня не только недооценили, меня переоценили в театре. Но я при первой неудаче обижаюсь, как старая дева, и ищу виновника, чтоб успокоить себя. Я дошел до того, что хочу катастрофы, оттого что я банкрот, оттого что не в силах побороть страх. Ведь я же не притворяюсь! Не пойду на сцену! Пусть штрафуют или выгоняют! Не все ли равно, раз я навсегда прощаюсь со сценой… Придется, правда, возвращать деньги публике, ну и пусть! Возьму убыток на себя… Но у меня ничего нет, и, раз ухожу из театра, я лишаюсь возможности даже заработать необходимые деньги. Кроме того, что скажет Творцов? Товарищи? Весь театр, весь город?
Да полно, смогу ли я уйти из театра! Ведь я не в силах жить без него!.. Пустяки! Отлично проживу. Скорее кончить сегодняшний проклятый и последний спектакль и начать новую жизнь».
Мной овладело болезненное нетерпение скорее закончить пытку. Так истомленные болью ждут операции; так измученные угрызением совести ждут исповеди или какой-нибудь развязки. Меня уже терзало нетерпение, и не в силах далее дожидаться в темноте окончания мучения, я вышел из уборной и поспешил на сцену, а переступив ее порог, почувствовал себя еще более одеревенелым, чем при прежних выходах, и еще сильнее растворившимся в пространстве. Чувство беспомощного состояния человека, выставленного напоказ, обязанность нравиться и иметь успех угнетали меня с еще большей силой. Я готовился уже к выходу на сцену, как вдруг вспомнил только что испытанное ощущение беспомощности при потере слов. На этот раз я побоялся даже пробовать проверить текст. Вспомнил только, что я его не повторял с последнего спектакля, а значит, мог и забыть.
Что делать? Я бросился из рокового коридора за кулисы, где ждал выхода, подбежал к бутафору, который случайно стоял поблизости, и с безумным лицом прошептал ему:
– Голубчик, будьте другом: спасите! Бегите скорее к суфлеру и просите его подавать мне каждое слово! Скажите, что я захворал! Умоляю вас, спасите!
Вскоре я вышел на сцену и, опять наткнувшись на страшную черную дыру портала, ощутил в еще большей степени свою беспомощность и положился только на суфлера, к которому и направил умоляющий взгляд…
Ужас! Его не было в будке! Оказывается, что бестолковый бутафор вызвал его из будки ко мне на сцену, а суфлер, еще хуже соображавший, побежал туда, но, не найдя меня, бросился обратно в будку. Только было уже поздно! Во второй раз в моей жизни на меня нашло что-то страшное, кошмар наяву, о котором и теперь я не могу вспомнить без внутренней дрожи.
Весь описываемый спектакль и, в частности, вызванный им кошмар имели важное значение в моей артистической карьере, и потому я должен остановиться на нем подробнее и вспомнить такое же ужасное состояние, которое на всю жизнь напугало меня при первых шагах моей артистической карьеры.
Это было давно. Еще юнцом я участвовал в