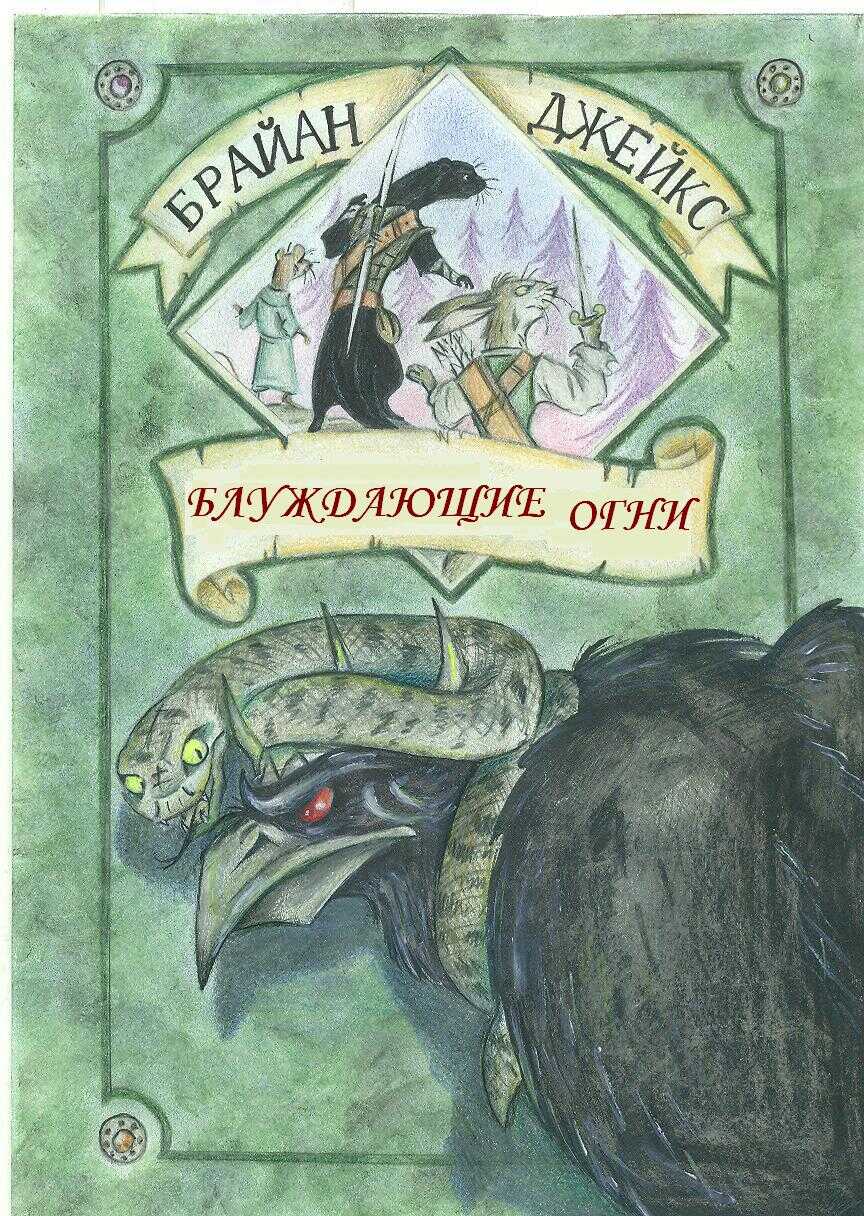Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110
у нескольких пассажиров. А там, где лежали рюкзаки, из одного из них торчал целый пук… «Веники, к чему им веники?» – подумал Мечетный. И еще подумал, что люди, несмотря на майскую влажную жару, были тепло одеты. А у него – берет, плащик да небольшой чемодан, в котором шорты, плавки да папки с его неоконченной диссертацией. Впрочем, женщина с ребенком была и вовсе без верхней одежды. А ведь летит туда же. А вот ребенок был погружен в пушистый меховой кокон: ребенок в мехах, а мать в легком маркизетовом платьице. Они представляли собой удивительный контраст.
Самолет стоял у самой кромки огромного аэродрома, невдалеке от веселого березового леска, деревья которого простирали ветки над крайними бетонными плитами. Промытый вчерашним ливнем лес выглядел ярко и красочно, будто был нарисован на рекламном плакате. Внизу сплошной стеной белели стволы берез, а сверху их накрывала курчавая, еще не загрубевшая на солнце листва. Там, в этом лесу, буйствовала весна, и когда ветер трогал макушки берез, оттуда, из этой молодой рощи, неслись ароматы распустившейся листвы, влажной травы, и ароматы эти побеждали даже аэродромные запахи керосина и смазочных масел.
Просто не верилось, что самолет, взмыв ввысь, за какие-нибудь пять часов перенесет пассажиров из этой вешней благодати в край снегов, льдов, в край холода и вечной мерзлоты. И сам город, куда летел Мечетный, представлялся ему толпою круглых яранг из тюленьих шкур. Что он, Мечетный, будет там делать в своем пижонском плаще и тонких шевровых ботинках?
Жалел ли он о том, что так вот сразу, увлеченный порывом, рожденным грохочущей весенней грозой, променял теплую душистую Гагру на ледяной Север? Он так мечтал об этом отпуске, о том, чтобы, хоть на месяц освободившись от захлестывавшей его деловой толкучки, обдумать последнюю, самую трудную, главу своей диссертации, на которую ему всегда не хватало времени… Нет, все-таки не жалел. Что сделано, то сделано! После беседы с Преображенским он уже верил, что геолог Анна Лихобаба – действительно его Анюта и что он обязательно должен найти и найдет ее…
Но какова она теперь? Столько лет прошло! Помнит ли она его вообще? А может быть, так же вот вычеркнула его из своего сердца, как он когда-то даже из воспоминаний вычеркнул Наташу? И Анюта, может быть, не вспоминает, начисто забыла его. Может, даже и не узнает: какой такой Мечетный, откуда? Ах да, тот… Может быть, она замужем. Нет-нет, выйдя замуж, она обязательно сменила бы фамилию, которая всегда тяготила ее. Да и вряд ли замужняя, семейная женщина осталась бы геологом-поисковиком.
Где-то в дальней своей мысли Мечетный рассчитывал, что, может быть, вместе вернутся они из Арктики, что привезет ее к себе в свой молодой город, на завод, выросший у него на глазах, ставший для него самым родным местом на земле, родным настолько, что он уже не мыслил себя вне его… Как знать, может, летит он сейчас в Арктику за своей судьбой…
Металлический голос радиодиктора то и дело объявлял посадку на различные рейсы – на Лондон и Киев, на Токио и Кострому, на Хабаровск, на Вену. А рейса, на котором летел Мечетный, все не объявляли. Ребята в черных бушлатах, перепев свои песни, сидели на рюкзаках и подремывали. Человек, похожий на матерого медведя, перестав ходить, достал книжку и, пристроившись на ступеньках трапа, читал и даже что-то подчеркивал, женщина в пестром маркизетовом платьице уселась на принесенный ей стул, извлекла своего вспотевшего младенца из мехового кокона и кормила его грудью. Какой-то пассажир брюзжал:
– Известное дело, где начинается Аэрофлот, там кончается порядок…
Мечетный переступал с ноги на ногу. Скорее бы уже! Соблазн махнуть рукой на неожиданную полярную экспедицию был велик и рос с каждой минутой ожидания. Ну куда, куда он летит так налегке? Вот как все они одеты, полярники. Но смотрел на кормящую молодую мать, и становилось стыдно: трусишь, ищешь повод дать задний ход? И вспомнился рассказ академика о том, как Анюта с презрением бросила тому в лицо: трусите, да?.. Трусите?..
Наконец в дверях машины показалась дородная стюардесса. Густые русые волосы выбивались у нее из-под форменной пилотки и падали на плечи. Глубоким звучным голосом, как-то по-домашнему сказала она:
– Заждались? Ничего-ничего, в пути наверстаем, прибудем вовремя. Ветер нам в спину.
Загорелые ребята в черных бушлатах сразу оживились.
– Здравствуйте, Тамарочка.
– Мы тут без вас истосковались.
– Тамара с нами, значит, будет хороший рейс.
Стюардесса улыбалась широкой, добродушной улыбкой, показывая два ряда безукоризненно белых крупных зубов.
Она бережно взяла у молодой мамаши кокон с младенцем и как-то очень ловко понесла его по трапу.
– А он у вас за месяц вырос. Честное слово!..
Стало очевидным, что эта Тамара была в Арктике своим человеком: все знали ее, и она знала многих.
27
В самолете оказалось много свободных мест. Тамара опустила со стены сетчатую люлечку и уложила в нее мохнатый кокон. Мамаша смогла занять все три кресла. Тамара принесла подушку, накрыла ее пледом, и та сразу заснула.
Загорелые ребята уселись все вместе в хвостовой части салона, поснимали свои тяжелые бушлаты и стали вдруг разными и непохожими друг на друга. Рядом с Мечетным оказался широкоплечий, немолодой уже человек, напоминавший матерого медведя. Когда он снял свой бушлат, на груди его оказалась Звезда Героя Советского Союза.
– Трофимов Александр Федорович, – отрекомендовался он и крепко тряхнул руку Мечетного своей большой рукой.
Мечетный назвал себя.
Трофимов показал на его Звезду.
– За что?
– За Одер. А у вас?
– За Арктику.
– Вы, собственно, кто же будете-то?
– Директор института, доктор географических наук. А вы?
– Инженер, кандидат наук технических.
– Александр Федорович, вы, по-видимому, тут человек свой. Скажите, бога ради, почему многие везут веники? Вон эта блондинка с ребенком и тюльпаны и веник. И у других.
– А-а, дорогой Владимир Онуфриевич. Сразу видно, что вы высоких широт не нюхали. Веник там лучший подарок. Новая книга и веник. Там ни деревца, ни лесочка, кустика – и того не увидите. А что может быть для полярника слаще, чем попариться вволю в бане с березовым, а лучше – с дубовым веничком. Вот вы-то, скажите, как это вы, дорогой мой, в Арктику направились в такой экипировке? Арктика – не Сочи и не Гагра.
– А я ведь как раз и собирался в Гагру. Но судьба – пришлось изменить маршрут.
– Что ж это так?
Несмотря на то что сосед занимал почти полтора кресла, голос у него был высокий, мелодичный, и было в незнакомом этом человеке что-то такое, что сразу располагало к нему. И Мечетный, суровый, немногословный человек, не терпевший людей, которые на стандартный вопрос «как поживаете?» принимаются за подробный рассказ о своих личных делах, вдруг сам пустился рассказывать соседу об Анюте, о своей неудачной любви и о том, почему он так неожиданно изменил маршрут поездки.
Новый знакомый обладал ценнейшим и редчайшим человеческим даром: он умел слушать. Слушал, не задавая вопросов, не перебивая, не торопя, не бросая поощряющих реплик. Он только кивал своей большой круглой и тоже будто медвежьей головой. Лишь потом, когда Мечетный закончил свое обстоятельное повествование и замолчал, он сказал приятным тенорком:
– Да, Владимир Онуфриевич, чую, ваш барометр показывает бурю. – И, подумав, добавил: – Сложные обстоятельства.
– Вылетел сгоряча, а теперь уж и не знаю, как я в этом обмундировании у вас по льдам ходить буду.
– Об этом меньше всего думайте. Полярники – народ дружный, на морозе голого не оставят. Не в этом сложность, Владимир Онуфриевич, – сложность, я бы сказал, в другом – в плане психологическом. Ведь сколько времени-то прошло! Целое поколение поднялось. У нас ведь как порою бывает – уедет человек на зимовку, а вернется – жена от него отвыкла, сам от нее отвык. За один год. А тут столько лет!.. Ну да чего там. Прилетите, увидите.
– Секретарь горкома у вас какой? Поможет?
– Мой секретарь горкома в Ленинграде. Я в Арктику на гастроли. Но тамошнего знаю. Душевный, толковый, только в силу того, что он душевный и толковый, вы его, наверное, в городе-то и не застанете. Наверняка в тундре. Май, оленеводы стада перегоняют. Страдная пора:
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110