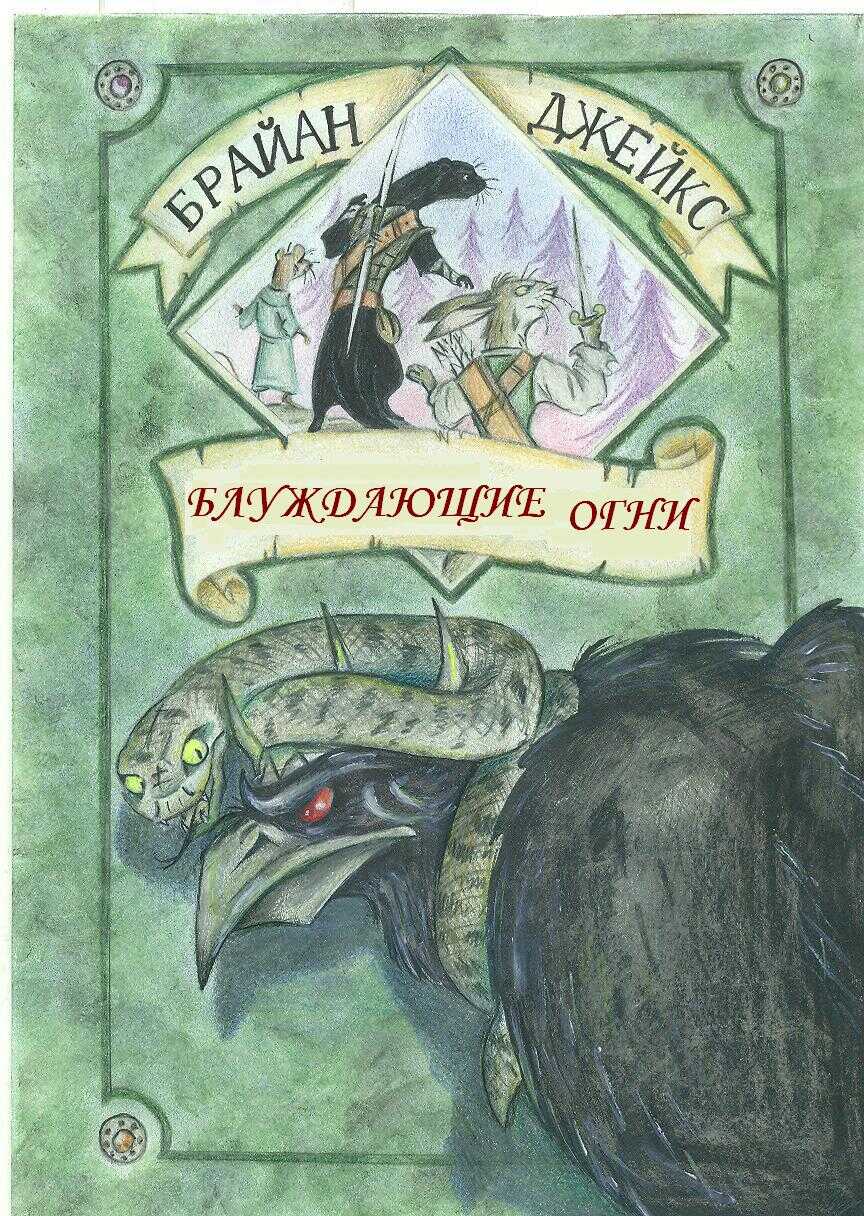Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34
зрелости и бесстрашия перед партнером и грядущим браком. Признак того, что она знает и понимает запреты, установленные в обществе[41].
Козлы и петухи
В сказке увести Снегурушку от Бабы Яги пробуют петух и бычок.
Петух здесь появился неспроста. Именно первый петушиный крик возвещал об окончании инициационных испытаний, а позже стало принято считать, что он способен прогонять нечистую силу. Петухов приносили в жертву Перуну, и по их пению вожди гадали на исход предстоящей битвы. Петух был упомянут в сказке «Госпожа Метелица» братьев Гримм: сидя на воротах, он сообщал, что одна девушка возвращается домой с богатыми дарами, а другая – в смоле. Вероятно, в сказке «Снегурушка» эта птица на самом деле не пыталась отвести девушку домой, а возвещала о том, что она прошла испытание и стала взрослой.
Иллюстрация Бориса Зворыкина к «Сказке про Марью Моревну».
Российская государственная библиотека
След в след
В погоню Баба Яга пускается в ступе и с помелом. Не просто так она вне дома пользуется помелом, которое часто в позднейших пересказах называют метлой. Магия и записи о колдовских делах говорят, что достаточно вынуть след человека из земли, чтобы навести на него порчу, лишить его воли, подчинить его себе.
В былине о Добрыне и Марине говорится о том, что колдунья, чтобы отомстить богатырю за разбитое зеркало, вырезает его следы и привораживает:
Разжигает дрова палящатым огнем
И сама она дровам приговаривает:
«Сколь жарко дрова разгораются
Со темя следы молодецкими,
Разгоралось бы сердце молодецкое
Как у молода Добрынюшки Никитьевича…»[42]
Считалось, что ведьмы могут взять кусок земли с хорошо отпечатавшимся в ней следом, сказать какие-то слова и положить его либо в гроб к покойнику – и тогда человек быстро умрет, либо в печь – и тогда жертва будет медленно угасать, сохнуть.
Баба Яга хоть и живет на границе миров, но опасается человеческого коварства, поэтому помелом заметает следы. Серьезное отношение к негативным магическим действиям прослеживается и в исторических документах. В присяге на верность царям Борису Годунову, Василию Шуйскому и Михаилу Федоровичу Романову были слова о том, что приносящий клятву не будет посылать никакого лиха по ветру и «следу не вынимать».
В одном из вариантов сказки девушку приводит домой лиса. В награду родители дарят той мешок, но вместо курицы в мешке оказывается спрятана собака, которая загнала лисицу обратно в густой лес. Александр Потебня считал, что лиса здесь и есть сама Баба Яга (как и в сказке «Кот и петух»), но сложно сказать, насколько это похоже на правду. Обычно, чтобы неофит вернулся домой, Баба Яга дает ему путеводный клубок или череп со светящимися глазницами, но отводить его самой… Скорее всего, она доходит с ним до определенной границы. Особенно хорошо это прослеживается в сюжетах, где есть мотив преследования героинь: в сказках «Баба Яга», «Гуси-лебеди» и тех, что мы рассматриваем в этой главе.
Необычные проводы после прохождения посвящения описываются также в приведенной в предыдущей главе песне о лесной избе, где девушка молола рожь:
Взяла меня мати за правую руку,
Повела меня мати за темные лесы,
За темные лесы, за крутые горы,
За крутые горы, за быстрые реки…
А я лесы шла со свечами,
А я горы шла со трубами,
А я реки плыла со слезами…[43]
Снегурушка и лиса. Иллюстрация Виктора Пятакова из серии «Русские народные сказки». Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Прежде чем обратиться к образу персонажа, которому удалось увести девушку из лесной избушки, необходимо рассмотреть еще одну историю. Со сказкой «Снегурушка» во многом схожа сказка «Бычок – черный бочок, белые копытца». Девушка уходит с подружками в лес, там ее хватает и приносит в свою избушку Баба Яга. В архаическом понимании похищение приравнивается к смерти, то есть главная героиня пребывает на территории мертвых, как и Снегурушка. Но вот Баба Яга здесь изображается нетипично для женской сказки. Нюрочка-девчурочка жалуется на нее: «…она меня досыта не кормит, бранит-ругает, целый день работать заставляет». Еще упоминается обязательное прядение – по всей видимости, шерсти.
Этюд Алексея Корзухина к картине «Крестьянские девочки в лесу».
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Когда мимо избушки идут стада: овцы и баран, козы и козел, коровы и бык, – баран и козел предлагают героине пойти с ними. Но Баба Яга каждый раз нагоняет беглянку и возвращает ее, как вернула сбежавшую с петухом Снегурушку.
В других версиях сказки упоминались также волк и медведь. Все это персонажи мужского пола, и за образами этих животных легко увидеть вероятных женихов. Можно ли рассматривать животных в сказке как претендентов «на руку и сердце» главной героини? Вполне. В сказках и мифах найдется множество примеров таких браков. Эти символы нашли отражение и в свадебных песнях:
Поди-ка, маменька, посмотри,
Что нам бояре привели:
Привели бояре ярочку –
Нашему Андрею парочку![44]
Головные уборы замужних женщин – рогатая кичка или кокошник – связывали их с животным миром, с козой и курицей соответственно, и должны были помочь в деторождении.
Рогатая кичка и кокошник.
The New York Public Library Digital Collection
С патриархальной точки зрения Баба Яга мешает девушкам вступить в брак. С матриархальной – не отдает их неугодным женихам, а позволяет дождаться того, кто будет для них парой. Схожие мотивы есть и в песенном фольклоре. Непряха, вышедшая замуж за козла, фигурировала в прядильных песнях Поозерья (современная Витебская область).
…Как пришел козел под оконца:
– Тут прядут, тут прядут девки волоконца?
– А все девочки прядут, одна Манька не прядет,
Отдадим мы ее за козла, за козла…[45]
В сказке, наоборот, Баба Яга догоняет козла, возвращает Нюрочку-девчурочку в безопасное пространство своих владений, дает ей возможность стать хорошей пряхой и найти подходящего мужа.
Все пряхи мира
Мотив прядения встречается в этой книге уже не в первый раз – и не в последний. Образы прях дошли до нас из древнейших мифов. У греков они назывались мойрами, у римлян – парками, у скандинавов – норнами. Само слово «мойра» имеет значение «часть», «доля». Так три дочери Ананке – божества необходимости, вращающего мировое веретено, – дают человеку до рождения жребий, прядут нить его жизни и приближают его будущее, то есть готовят его «участь», «долю». В матриархальную эпоху была известна лишь их мать, одно из воплощений Великой Матери, и они не зависели от остальных божеств. В эпоху патриархата сначала Зевс, а потом и Аполлон стали называться «мойрагетами», то есть водителями мойр и вершителями судеб.
Норны, сидящие у корней ясеня Иггдрасиля, тоже прядут судьбоносные нити. Они же поливают водой из священного источника Урд мировое древо, не давая ему засохнуть. Норн воспринимали как прошлое, настоящее и будущее, к ним за советом и предсказанием обращался даже бог Один. Они не только схожи с мойрами, но и отчасти родственны валькириям, которые определяли судьбу воинов во время битвы.
У славян же почиталась прядущая богиня Мокошь, а с распространением христианства ее место заняла святая Параскева, называемая Пятницей. Считалось, что она установила запрет оставлять на ночь прялку с незаконченной работой. То, что по пятницам женщины старались не прясть и не стирать, не белить печей и даже не расчесывать волосы, тоже связано с Мокошью и Параскевой. Ей (или им) приносили в жертву пряжу, бросая ее в колодец: прядущая богиня напрямую связывалась с водными источниками. В ночь с четверга на пятницу женщины оставляли для нее на столе горшок с кашей
Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34