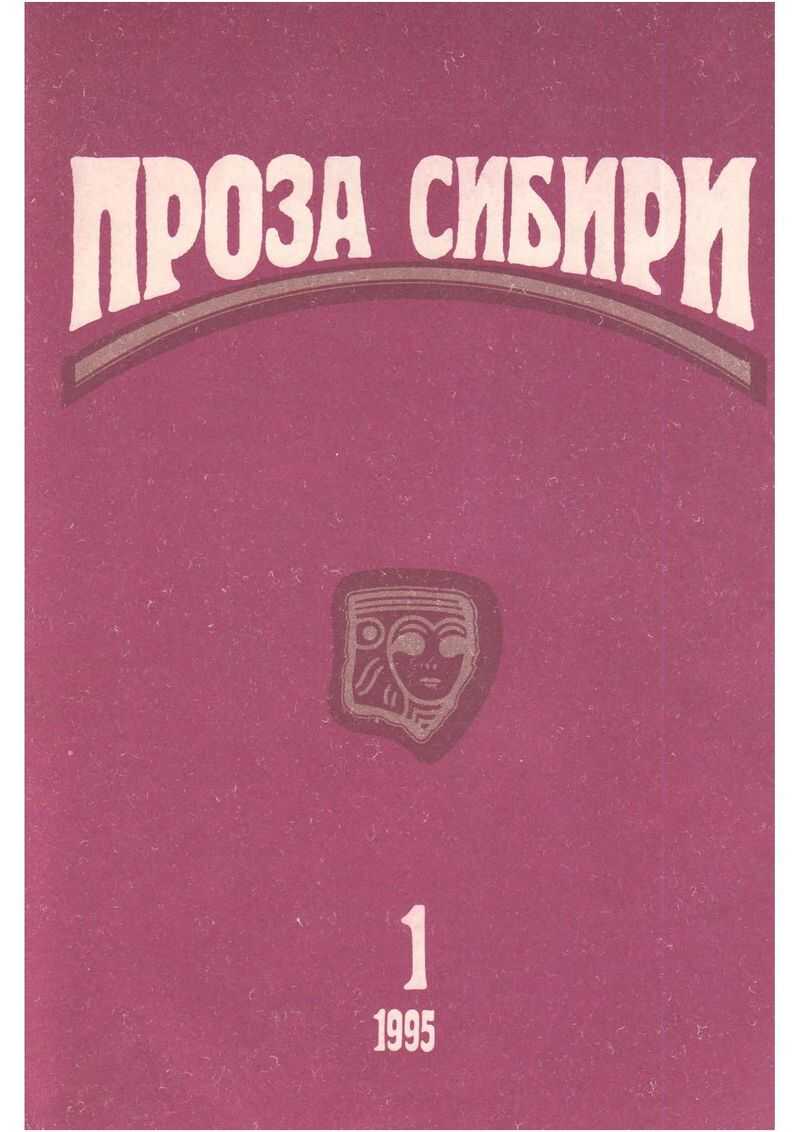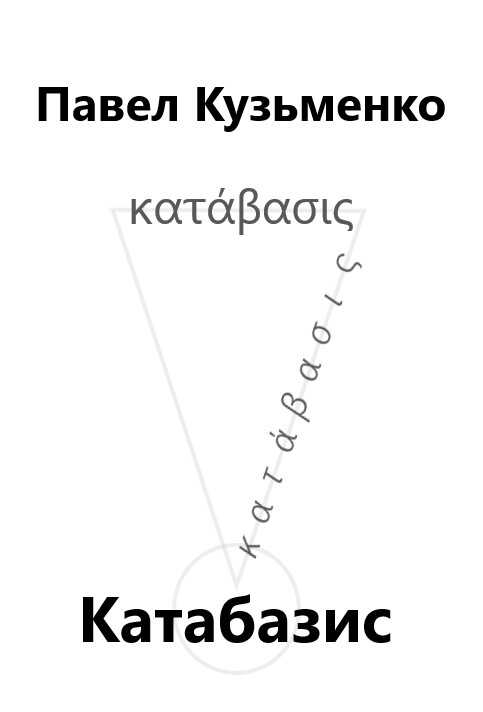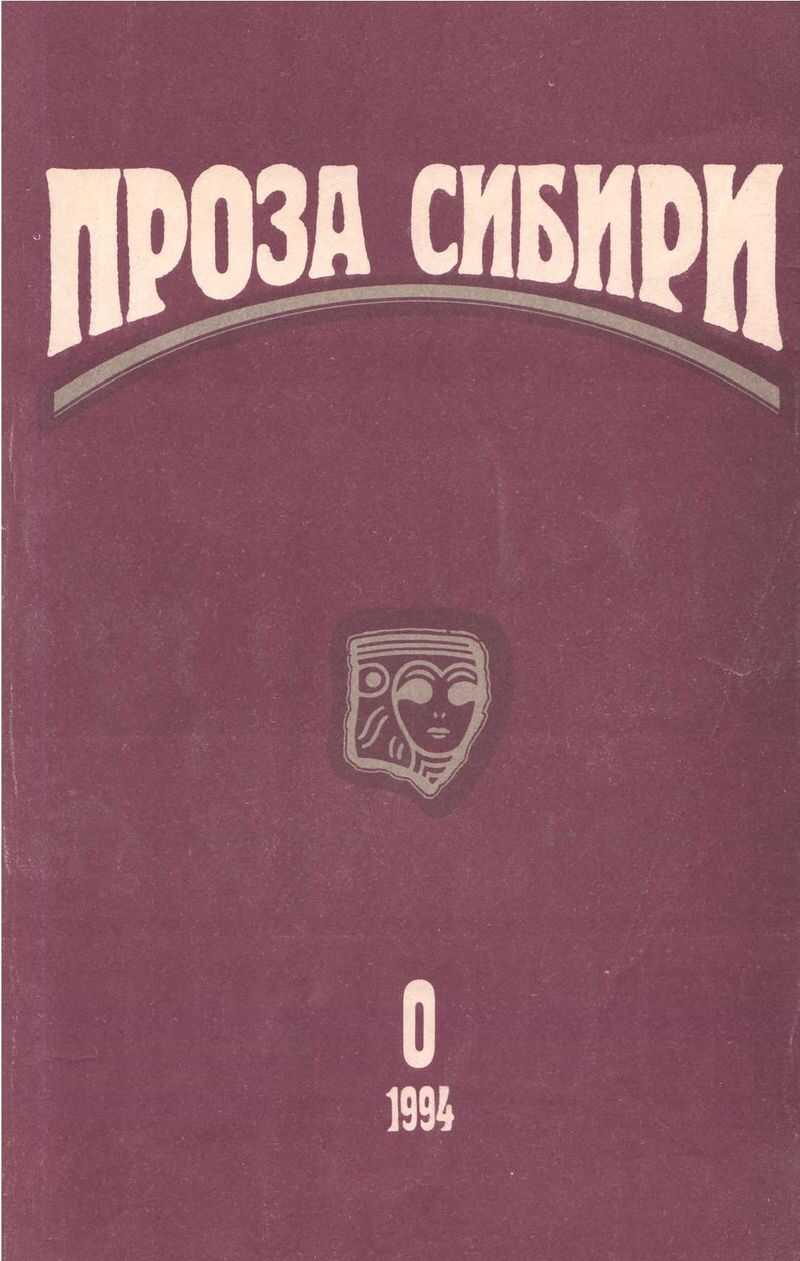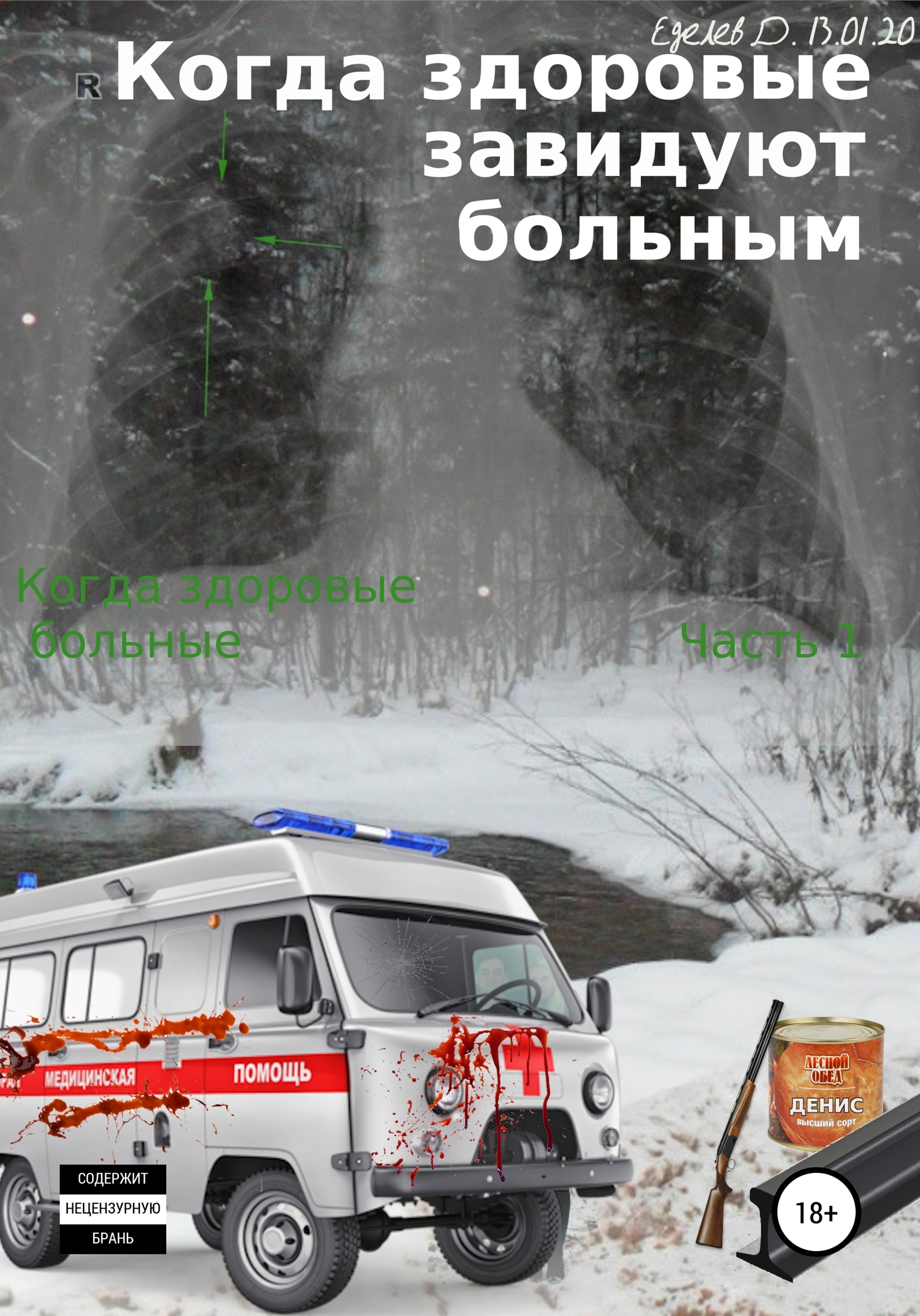решаются любые проблемы, в том числе и проблемы мироздания (Язев). Эти кафедры являются благоприятной почвой для появления нашего транспортного „морганизма". Примером могут служить работы Язева.
Доц. Гельский: В научно-техническом кружке Язев проводит тему о жизни на других мирах, основывая ее на освещении работы английского астронома, не помню фамилии, ярого идеалиста, почти договаривающегося до божественного начала в происхождении мира. Лекция Язева о достижениях русских ученых — здесь опять же вредная тенденция об особом духе, привилегии ученого на сверхчеловека и т.д. Везде и всюду Язев выступал перед нами как неприкрытый, откровенный и очень активный идеалист, а именно с этой стороны отпора ему не давали.
И — так далее. „Спенсер" уже вылетел из ученой головы, только враждебный ярлык остался в памяти. Зато новые преступные имена вписаны в покорные мозги.
Кого интересует суть язевского исследования? Да и кто что понимает в этом „на транспорте"?
И хотя с 1 сентября Язев освобожден от работы в Институте, а 23 сентября ВАК отклоняет ходатайство (посланное, видимо, много раньше) об „утверждении Язева И.Н. в ученом звании профессора", поверженный звездочет еще долго остается в НИВИТе незаменимой куклой для битья.
„Идеалист "... Чем же он так достал свое реалистическое окружение? В самом письме, которое партбюро скрыло от партсобрания, Иван Наумович пытается объяснить происходящее себе и другим:
„Дело в том, что от меня требуют, чтобы я ходил перед начальством на задних лапках. А у меня этих лапок нет. Вот в чем моя трагедия. И из лучшего профессора сделали воронье пугало".
Характер? Высокая самооценка? Звездная болезнь — не только в смысле упоения звездами, но и взгляд на себя как на звезду первой величины?
Высказывания Ивана Наумовича позволяют предположить такое. Но, во-первых, уж больно крут окорот за довольно-таки невинную слабость. И во-вторых — разве на самом деле перед нами не яркая фигура?
Его исключают из партии, а он читает стихи, призывает на помощь Насреддина... Точно — идеалист.
Есть возможность увидеть портрет в семейном интерьере. Заодно заглянуть за ширму протоколов истязания. Не лишне и для сюжета.
8. „Как папа любил книги!"
Гемма Ивановна Язева, вспоминая об отце с нежностью, болью, тоской, уходит в детство как в светлый праздник. Иван Наумович в зарисовках дочери безупречно привлекателен.
„С 1934 по 1938-й мы жили в Полтаве. Папа работал в обсерватории и состоял профессором Полтавского педагогического института. Жили на территории обсерватории, где большую площадь занимал фруктовый сад со старыми грушами, яблонями, вишнями и прочим и прочим. Маленький одноэтажный домик с четырьмя комнатками и двумя верандами — в сад и огород — был нашим. (Говорят, первая бомба, брошенная фашистами на Полтаву, попала именно в этот домик).
Я была слишком мала (родилась в 34-м), но у меня на всю жизнь осталось от Полтавы прекрасное ощущение мира, уюта, доброты. Таким был наш дом, наша семья. Запомнились воскресные выходы в кондитерскую. Небольшие столики. За один садятся папа с Арктуром, за другой — мы с мамой. Традиционные трубочки с кремом, слоеные языки. Все выходы — непременно всей семьей.
Ходили также на Воркслу, и папа рассказывал о Петре I, о шведах и поляках. На речку Тарапуньку, болотистую и пиявочную, где, по рассказам папы, Петр утопил полчища врагов.
Вечерами на веранде, выходящей в сад, пили чай из самовара, приходили друзья родителей, смеялись, рассказывали что-то интересное. Небо в Полтаве черное и близкое, а в небе звезды — и близкие и загадочные. И папа нам рассказывает о них. Стыдно, но я теперь ничего не помню из тех рассказов, и только безошибочно нахожу свое созвездие — Северной Короны — с главной звездой Геммой и созвездие Волопаса со звездой Арктур. (Они около Большой Медведицы). Но на небо я смотрю всегда.
Помню — подбегаю к садовому крыльцу, карабкаюсь по деревянной лестнице, вот уж я на пороге — слышу испуганный голос мамы из глубины комнаты. Прямо передо мной, приседая на высоких лохматых лапах, громадный паук-чудовище. Не успеваю испугаться — меня подхватывают сильные добрые руки папы, его голос, мягкий, проникновенный, звучит весело: „Страшно? Это тарантул". Папа несет меня на плечах в свой кабинет, достает Брема, и мы рассматриваем картинки. Приходит брат. Папа снимает с полки любимые книги, ложится на диван, мы пристраиваемся около него. Папа читает нам своего любимого Некрасова. „Дед Мазай и зайцы", „Крестьянские дети", „Школьник". Последнее ему было, видимо, особенно близко.
Сын батрака, хлебнувший в детстве нужды, выучившийся вопреки всему, даже воли отца своего, папа сочетал в себе яркую индивидуальность ученого и педагога, умеющего образно подать суть идеи, догадки, открытия, и основательность крестьянина, который не может жить хотя бы без маленького надела земли.
В доме было два хозяйственных культа — огород и соление капусты. От этого нельзя было уклониться. Правда, и нужда заставляла — много голодных лет. А работу в огороде папа умел сделать праздником. Шутит, рассказывает занятные истории, придумывает задания. И на огородной веранде так вкусно чистит перочинным ножом овощи и угощает нас своим „урожаем"...
Помню, как на той же огородной веранде мы с братом говорим о том, что скоро уедем в Сибирь, в Новосибирск, потому что папа устал жить на Украине, где только украинский язык, и в любом учреждении отвечают, если спросишь по русски, — „не разумию". И брату уже восемь, пора в школу, а преподают только на украинском.
В Новосибирск папу пригласил Сибстрин — для организации нового института на базе факультета. Для папы это было не просто новое место работы. Он верит, что именно здесь удастся создать образцовый институт, во всяком случае — кафедру, воспитывающую творчески мыслящих инженеров. Выступая на Совете института, он говорит о том, как должен вестись экзамен, как строить отношения педагога и слушателя. Часто звучат слова „праздник" и „творчество".
Сколько счастья принесли мне годы, проведенные в Сибстрине! Мы поселились на улице Ленинградской, во втором профкорпусе. В доме, где мы жили, царила удивительно теплая атмосфера. Или это мне так казалось?.. Но я и сейчас хорошо помню подъезды и квартиры, помню, где кто жил, и мне так не хватает их, старших и младших, в нынешней жизни...
Прекрасный парк был перед окнами второго корпуса Сибстрина. Сейчас остались одни тополя. И кому они мешали, клены, липы, акация, облепиха, даже кустики горького миндаля... А цветы были какие! Они высаживались в клумбы всеми жильцами дома. Тогда этот сад-парк казался мне огромным. Сейчас я понимаю, что он был невелик,