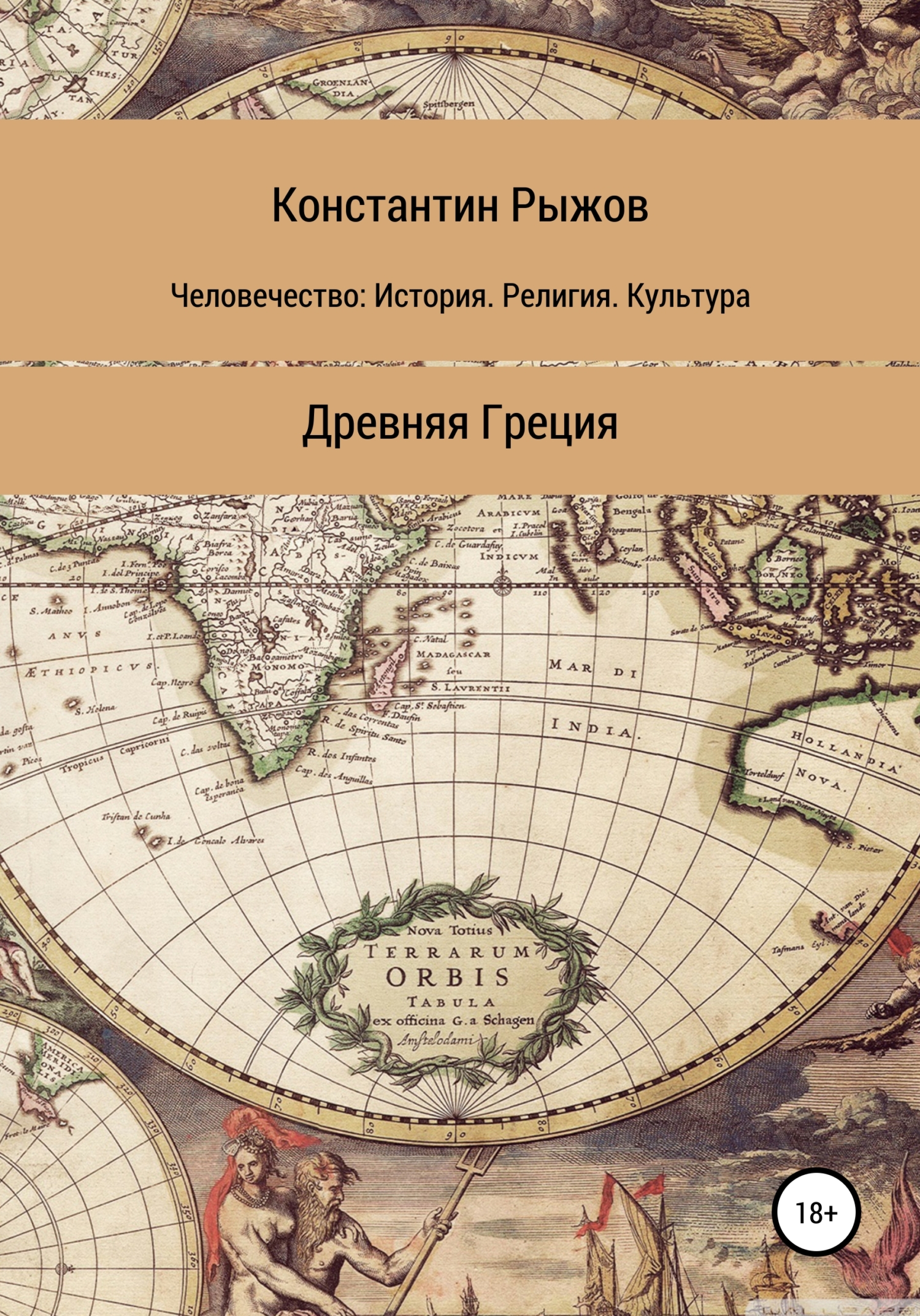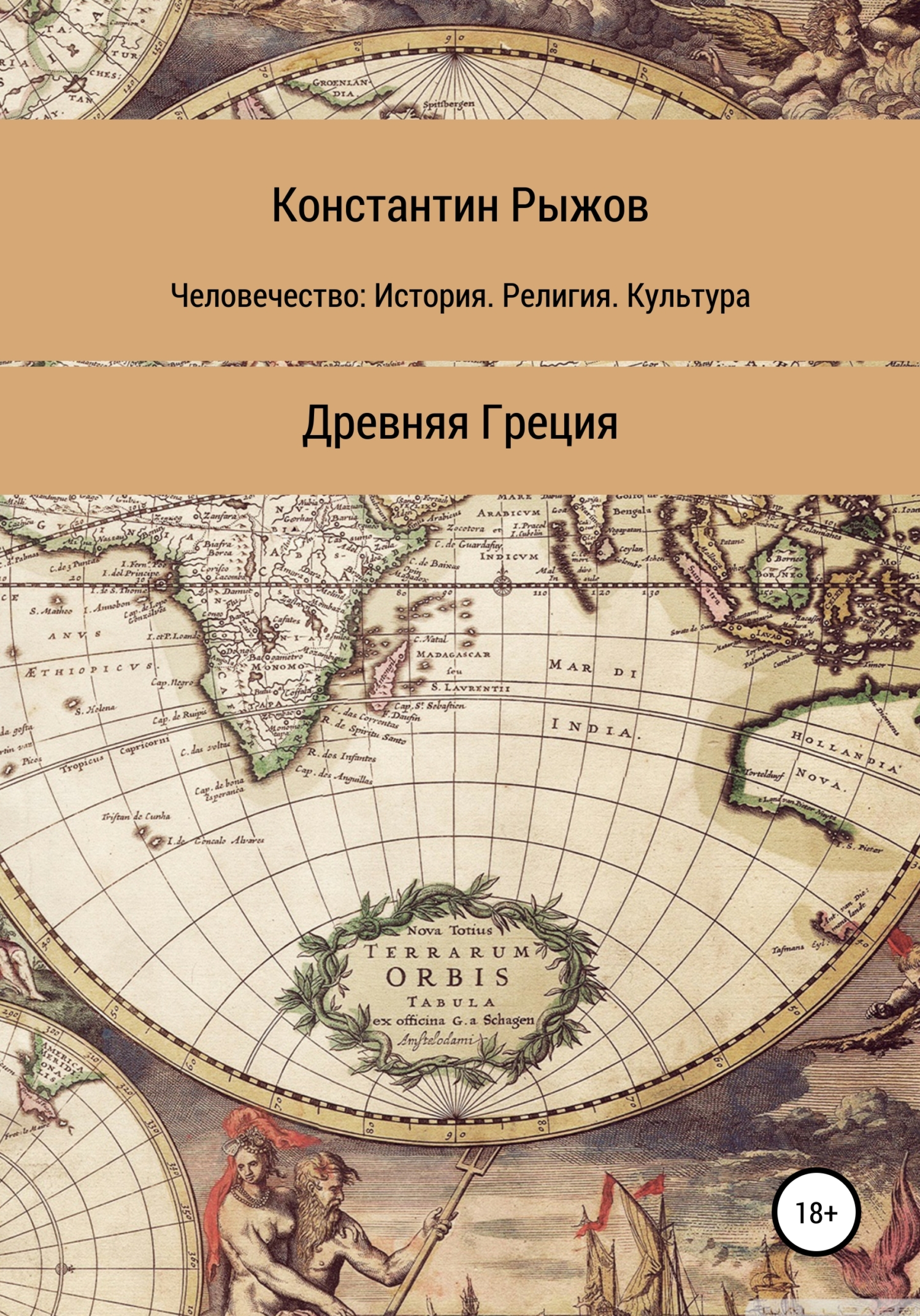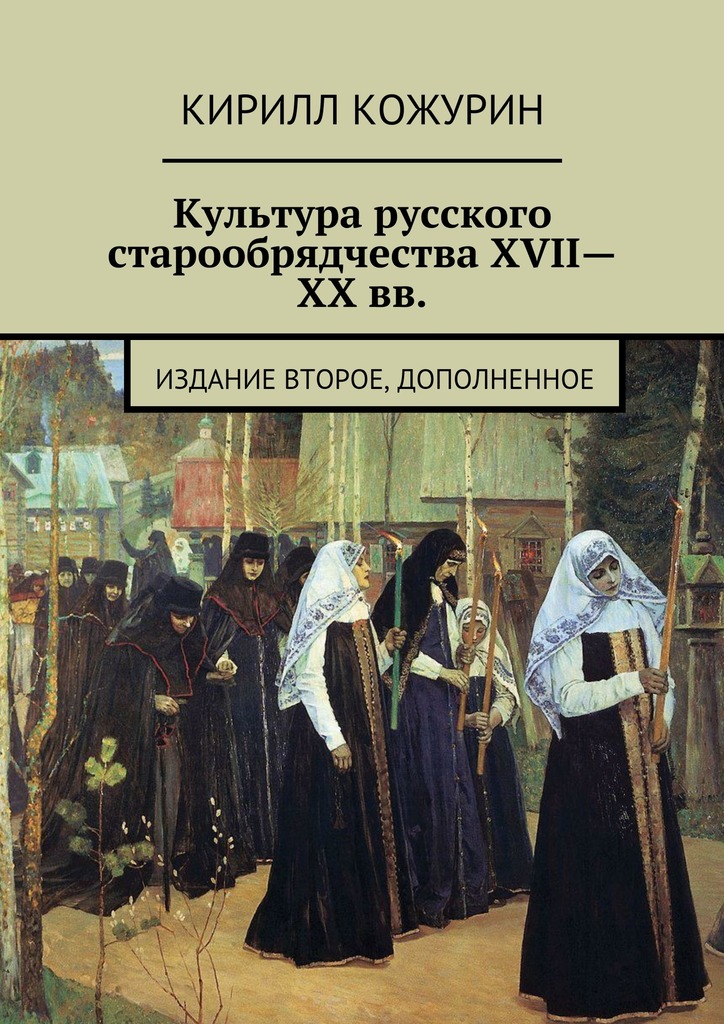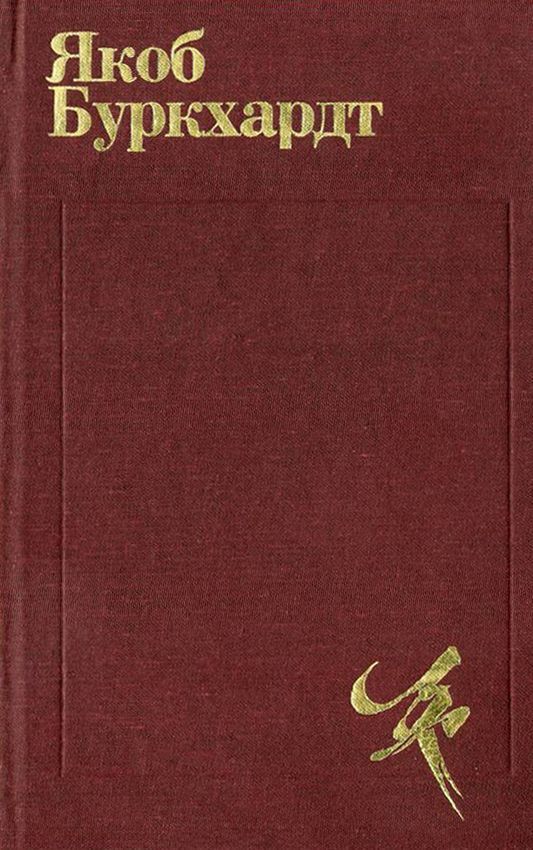Ознакомительная версия. Доступно 28 страниц из 137
class="p1">Боярский свадебный пир. Худ. К. Маковский
Количество выпитого за столом соответствовало масштабу стола и количеству гостей. Так, на царском приеме 12 ноября 1667 г. в Москве в честь польских послов было выпито две кружки анисовой водки, две кружки коричневой водки, восемь кружек боярской водки. Вина было выпито намного больше – пять ведер лучшей романеи, пять ведер бастры, два ведра рейнского вина, пять ведер алкана, четыре ведра фряжского вина, три ведра церковного вина. Примерно столько же было выпито меда и пива плюс шесть ведер браги.
Пышные столы накрывались и для патриарха. Для патриаршего стола, например, в конце XVII в. в обычные дни готовилось около 30 блюд. В один из таких дней (15 января 1698 г.) для стола первосвятителя были изготовлены следующие кушанья: папошник (пшеничный хлеб), сиг бочешной под хреном, лодога бочешная под хреном, три пирога долгих с кашей да с яйцами, пирог круглый, пирог косой с сыром, пироги подовые с яйцами, пироги-пышки, сырники, оладьи путные, блюдо пирогов-карасей, блюдо пряжья, сбитень, пирожки маленькие с телом, сельди свежие в тесте, кисель холодный со сливками, кисель горячий с маслом, щука колодка, окунь росолной, присол щучий, уха сборная, уха язевая на сковороде, огнива белужьи в ухе, звено лосося свежего в ухе, потроха щучьи свежие, капуста шатковая, щи с тешею, полголовы белужьей просольной, звено ставное, схаб белужий паровой, стерлядь паровая свежая, лещ паровой свежий, лещ паровой (из живых), кружок тельный. Некоторые блюда, поданные патриарху, носили любопытные названия: «кавардак» (подобие окрошки из разных рыб), «вандыши» (корюшка), «жерехи» (шерешпёр), «калья» (похлебка), пирог «на троицкое дело» (из просфорного теста с начинкой), пироги «копытцами» (сладкое в форме копытца). В перечне кушаний иногда встречается выражение «меж ух», что означало вообще пироги, которые подавались к горячему блюду. В дни строгого поста, когда рыба в пищу не употреблялась, количество блюд сокращалось наполовину. Питание бояр и именитых московских купцов по обилию блюд не уступало царской и патриаршей трапезе.
Столовой посудой для жидкой пищи служили мисы деревянные, оловянные или серебряные, а для жаркого – блюда из дерева, глины, олова, меди или серебра. Ели ложками, которые богато украшались и носили на себе имя владельца. Тарелками пользовались редко и еще реже их мыли; часто вместо тарелок употребляли просто лепешки или ломти хлеба. Еще менее в ходу были вилки (одна давалась на несколько человек), а ножей не полагалось, так как кушанья подавались уже разрезанными. Салфеток не существовало вовсе, и сидящие за столом обтирали руки краем скатерти или полотенцем. Непременным атрибутом стола были солонки, перечницы, уксусницы и горчичницы, иногда соединявшиеся в один причудливый сосуд с разными отделениями.
Сосуды, в которых приносилось к столу всякого рода питье, были разнообразны: ендова, ведро, четвертина, братина и др. Часто употреблявшаяся ендова имела емкость в одно или несколько ведер. Братина, предназначавшаяся для товарищеского угощения, являлась подобием горшка с покрышкой; из братины черпали вино ковшами или черпальцами либо передавали по кругу и все прикладывались к ней. В описи имущества Бориса Годунова были четыре братины из металла и 15 деревянных. Была традиция ставить братину на царские гробницы. В XVII в. серебряная братина стояла на гробнице царевича Ивана – сына царя Ивана Грозного. Возможно, именно оттуда идет обычай и в наши дни ставить на могилу стакан водки, накрытый куском черного хлеба.
Сосуды, из которых пили хозяева и гости, назывались по-разному: кружки, чаши, кубки, корцы, ковши и чарки. Кружки обычно имели цилиндрическую форму, несколько суженную кверху, но встречались и четырехгранные и даже восьмигранные. Кружки были очень велики: обычная емкость кружки составляла одну восьмую ведра. Круглые широкие сосуды с рукоятками или скобами назывались «чашами», а кубки представляли собой круглые сосуды с крышкой и на подставке и были самых разных размеров. Известен кубок, принадлежавший царю Ивану Грозному, весивший почти 20 кг и имевший в высоту более полутора метров. В отличие от ковшей с их овальным дном, корцы имели дно плоское. Маленькие по своим размерам чарки круглой формы с плоским дном имели иногда ножки и покрышку. Для питья вина употреблялись также, согласно древнему обычаю, оправленные в серебро рога.
В домах знатных и богатых людей драгоценные серебряные и позолоченные сосуды ставились в качестве украшения в специальные шкафы-поставцы, занимавшие середину парадной комнаты и служившие ее украшением. Внутри и снаружи таких сосудов обычно делались надписи. Известен сосуд, по ободу которого имеется надпись: «Чарка добра человеку, пить из нея на здравие, хваля Бога, про государево многолетнее здоровье», внутри: «Не злись, смирись, человече, желаешь славы земные, зато не наследишь небесные», а по бокам: «Зри, смотри, не люби и не проси». Бывали на сосудах и назидания: «Человече! Что на мя зриши? Не проглотить ли мя хочеши? Аз есмь бражник, воззри, человече, на дно братины сия, открыеши тайну свою». Нередко надписи заключали в себе изречения из священных текстов, сообщения о хозяине сосуда или посвящение тому, кому сосуд подносился в качестве подарка, например: «Ударила челом боярыня Ульяна Федоровна Романова».
Гостеприимное
(Гостеприимство)
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ постоянно прослеживается стремление разделить существующий мир – как духовный, так и материальный – на две противопоставленные друг другу части, одна из которых обладает положительным, а другая – отрицательным духовно-нравственным потенциалом. Весь мир представлялся русскому человеку как постоянное и напряженное противостояние мира дьявольского, греховного (так называемой «кривды») – и мира горнего, Божественного («правды»). Любой поступок, действие, слово имело либо духовно положительный, либо духовно отрицательный смысл.
Поэтому постоянное ощущение рядом с собою нечистого мира тьмы порождало стремление к постоянному «огораживанию», защите, обусловливало пребывание в непрерывной тревоге, а также в стремлении всегда видеть перед собой идеал – Бога, его святых, иконы, храмы, монастыри. Отсюда замечательно храмоздательство, яркие описания потустороннего мира в литературных памятниках, мотивы разнообразнейших «огораживаний» в народных обрядах и стремление к сакрализации окружающего пространства, наполнению его священными и защитительными символами.
Эта двойственность хорошо видна в известном всем обычае гостеприимства, которое с древности было одной из наиболее характерных черт русского народного быта и которое в Средневековье было выражено более, нежели сегодня. Уже в «Поучении» Владимира Мономаха предписывалось всякому князю всегда быть готовым к приему гостей и чтить их «брашном и питием». Любой человек, странствовавший из одного места в другое и не имевший ночлега, всегда мог рассчитывать на кров и стол почти в любом доме. При этом, по замечанию М. Забылина, «со случайного прохожего за хлеб-соль денег не брали», так же как и за ночлег. Внешне прием гостя выглядел следующим образом. По принятым правилам вежливости лица высшего звания, направляясь
Ознакомительная версия. Доступно 28 страниц из 137